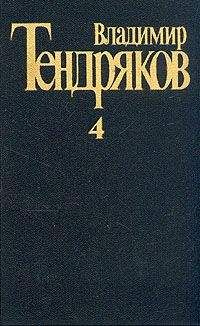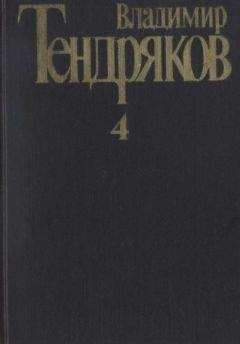Женьке видны со спины вздернутые костистые плечи и тощая стариковская шея. И почему–то эта шея, исхудавшая, старчески беззащитная, вызывает сейчас жгучую жалость. Даже скучившихся, устало молчащих баб не столь жаль…
Женька вспомнил Кистерева, его слова на совещании актива: «Страх в людях давно умер, а совесть жива…»
Случилось все как–то само собой. Сжимая палку в потной руке, изнемогая от жалости, от любви к склонившемуся над своей снедью старику, к бабам, сбившимся в сонную кучу, Женька подковылял вплотную и заговорил сколовшимся голосом:
— Бабы! Родные вы мои! Знаю — голодны!..
И бабы оживились:
— Да ты что, мил человек, масленых блинов дома наелись!
— Обожди, Манька, не хвались, поверит еще…
— Он, может, любушки, накормить нас хочет.
— Сейчас тебе скатерку раскинет!
— Нас целая деревня, заботушка, на всех–то хватит ли?
— Нет, матери вы мои, не могу вас накормить. И вас, и ваших детишек. Рад бы, да нету! В страшное время живом — война! Вы хлебаете, я тоже нахлебался…
— Да уж верим, нанюхался дымку.
— И дымку, и мертвечинки…
— Гляжу на вас — не веселы, устали — сердце сжимается.
— Может, попляшем вместях заместо работы?
— Плясать, знаю, ни сил, ни желания нету, но и горевать нам сейчас не по времени, бабы. Уж просто потому, что живы мы. Скажете, мол, какая это жизнь! Да какая бы ни была все великое счастье. Тот, кто сейчас лежит в окопах, вот о таком счастье и мечтает — жить. Меня ранило, а сорок восемь моих товарищей лежать остались. Захотите с ними поменяться судьбой? Нет! Дышите, видите, землю топчете. Вспомните о тех, кто погиб, чтоб мы дальше дышали. В войну всем не сладко, только у одних это горькое пройдет, у других беду уж ничем не поправишь.
— Что уж, правда.
— И то, нам себя отпевать рано.
— Гос–по–ди! А стонем — жизни нетути! Как нетути, когда дышим.
— Стон–то который год по всей стране стоит. Только давайте, бабы, пораскинем мозгами — не прошло ли время стонать нам? Терпели четыре года без малого, сколько еще терпеть? Столько же?.. Да нет! Сами знаете — война–то кончается. Каждый день теперь нашу беду уносит. Мир–то — вот–вот… Он стучится, бабы. Он близко… А раз так, то близко и жизнь настоящая — пироги пшеничные, пляски с гармошкой, работа без надрыва и трудодни выше прежних!
— Ох, и не говори, любой, не верится…
— Врете! Верится! Каждая сейчас верит, что войне конец. Тянули из последних сил, а уж теперь–то дотянем. Еще немного, еще чуточку. Подумайте только: это же последняя такая осень без хлеба. Иль кто не согласен, кто возразит мне, — мол, до следующей осени война протянется? Нету таких. В голову не придет сомневаться… А раз так, то нам ли унывать?!
И бабы заволновались, зашумели:
— На крохах дотянем, на карачках доползем!
— Мы–то семижильные, а вот у Гитлера тянулка лопает…
— А не хватит ли болтать, бабы, нас дело ждет…
— Поговорили — что хлебушка наелись.
— Доброе слово душу кормит.
— Давай по местам стройся!
Тракторист — девка в картузе — налегла на ручку, и разбитый трактор словно сам подогрелся вместе с бабами, чуть ли не с первого оборота чихнул, взревел, жестоко затрясся.
Адриан Фомич торопливо сунул в карман платок с недоеденной лепешкой, встал, пошел к молотилке.
Женька скинул шинель, по прислоненной лесенке полез на верх омета. Ему снизу подбросили деревянные вилы:
— Держи–и, мужичок!
Перехватил вилы наперевес, как оружие, распрямился до хруста в спине…
Солнце косматилось над хвойно–сплавленными сумеречными лесами. Насквозь промороженные, разбегались заиндевевшие поля, синими переполненными озерами копились среди них тени. Не шевельнется воздух, не мелькнет живое — не в дреме мир, в обморочном сне из сказки о спящей царевне — все замерло, все сковано. И только внизу, под самыми ногами — звонкий шабаш. Плюется грязным дымом трактор, лихорадит его, беднягу, до того, что вот–вот развалится. А громоздкий зверь — молотилка с хоботом — пока молчит, она–то поголосистей трактора. Толкутся, переругиваются, разбираются кто куда бабы, по захватанным до глянца держакам грабель плескается солнце.
И Женька не выдержал, задрал голову, захлебнул сколько мог воздуха и заголосил — бабам, Адриану Фомичу, солнцу, сумеречным лесам:
— На–ача–ли! Заводи граммофон!
Оперся покрепче на здоровую ногу, подцепил вилами охапку соломы — баньку можно накрыть, — сбросил на головы баб:
— Держи–и!
И взвыла молотилка, запричитала, покрыла рычание трактора. Замелькали солнечные держаки грабель.
На омете появилась одна кургузенькая, коротконогая бабенка в пехотинском бушлатике.
— И–ех! В хорошей компании постою…
Но стоять не стала — где там! — бойко замахала вилами, покряхтывая, поохивая:
— И–ех! И–ех! Берегись, бабы! Завалю! И–ех!..
Снизу кричали:
— Эй, Манька! Столкни к нам лапушку–то!
— Ой, нет, бабы, не грабьте! Я туточки хоть понюхаю, чем мужичок пахнет… И–ех! И–ех!..
Адриан Фомич в нахлобученной на брови шапке скупенько пошевеливался возле молотилки, совал в барабан перепутанную солому. И озверевшая молотилка то давилась, с глухим скрежетом пережевывала, то звонко, голодно взревывала, пока Адриан Фомич не затыкал жадную пасть.
Жарко. Ныла нога. Приловчился опираться в солому коленом, давал отдых раненой ступне. И, словно крот, рылась в соломе бойкая Манька в пехотинском бушлатике:
— И–ех! И–ех! Завалю, бабы!..
Бабы! Рваные, усохшие, морщинистые, кормленные силосными лепешками. Бабы, давно переставшие быть бабами, исстрадавшиеся над некормлеными детьми, выплакавшие слезы над похоронками… Переставшие быть бабами, но не матерями, сестрами, любящими женами.
Будет еще у вас в доме пахнуть печеным хлебом!
Вырастут ваши дети здоровыми!
К кому–то из вас вернутся мужья.
К кому–то — даже молодость, даже красота…
И солнце катилось над зубчатой хвоей дальних лесов, и пластались поля, и в ложбинках стыли нерасплесканные синие–синие тени. Рычала голодно и звонко молотилка, выплевывала изжеванную солому, гимнастерка прилипала к спине.
Очнулся он у самой земли. Омет осел, было уже темно, бабы собирали вилы и грабли, переговаривались, смеялись, поглядывали на него из–под платков.
— Горяченький мужичок нам попался!
— На ночку бы…
— У тебя, бедовая, ночное–то, поди, поприсохло все.
— А пусть проверит, може, и не присохло.
Женька, с трудом разгибая неподатливую спину, подумал: «А ведь они, наверное, не старухи, так только кажутся…» Хотел спрыгнуть лихо на землю, но вовремя спохватился — нога! Хорош бы он был, если б его после такого праздничного дня потянули в деревню волоком. Слезал бережно, с ощупочкой, по–стариковски солидно.
По другую сторону от молотилки вырос новый омет. Ничего себе горку перекинули! Подошел Адриан Фомич; даже в сумерках было видно, что старик пропылен с головы до ног. Лицо и борода сейчас одного цвета — серые.
— Ну вот, — сказал он без воодушевления, — два мешка полных намолотили да еще в третий насыпали чуток.
— Значит, все-таки было зерно! — восторжествовал Женька. — Значит, прав Божеумов!
Адриан Фомич хмыкнул:
— Выходит, что прав.
— А у вас еще три омета стоят! Если с каждого по два мешка — шесть! Немного, но помощь какая–никакая.
В стороне собирались бабы:
— Корова–то дома не доена.
— У тебя корова, а у меня одни зверушки голозадые по избе шастают. Того и гляди сами себя подпалят.
— Косточки чтой–то… Пока работали — ничего, а теперь вот не разогнусь.
Одна за другой бабы потянулись в темноту.
И вдруг Женька вспомнил слова Веры: «Зимой бы каждый по охапочке в дом носил. С охапки — по щепоточке…» Эти бабы носили бы эту солому. Так вот почему Адриан Фомич сдержан! Три омета — шесть мешков (еще наберется ли?), на всю деревню — крохи, но и того теперь не будет. Зима впереди, весна, лето — только к будущей осени вырастет новый хлеб.
Бабы знали это до начала работы. Знали и согласились остаться без хлеба. Он, Женька, сам того не ведая, убедил их. Работали дружно, весело, не жалея себя. Сейчас идут темной дорогой, и наверняка каждая прикидывает, как выжить без этих «с охапки — по щепоточке». Зима впереди, весна, лето… Как выжить до будущей осени?
Прав оказался Божеумов — был в деревне хлеб. Чуть–чуть, но был.
И уж Божеумов будет торжествовать!
Теперь–то уж можно не сомневаться — бабы отдали последнее, если не считать тех трех мешков сорной пшеницы, что Адриан Фомич на свой страх и риск оставил к весне для работников.
«Страх в людях умер, а совесть жива…» Кистерев, оказывается, хорошо знал баб.
— Сейчас лошадь придет, Евген. С мешками уедешь, — озабоченно произнес Адриан Фомич. — Намял, поди, ногу–то.