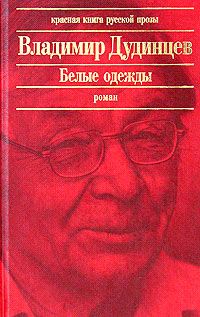— Не берете? Считаю: раз, два, три... Хорошо. — И он положил деньги в карман брюк, который сразу распух.
Она усмехнулась и вышла на кухню. Долго не появлялась. Федор Иванович оглядывал комнату. Ничего старого здесь не осталось. Ничего, напоминающего о поэте. Хотя нет: из-за шкафа смотрела со стены большая афиша с крупными словами: «Иннокентий Кондаков». И Кешин артистический оскал...
— На поэта вашего смотрите? — спросила она, внося алюминиевый чайник.
«Не на моего, а на вашего», — хотелось бы ответить Федору Ивановичу. Но он сейчас же вспомнил, что на днях Кеша явится сюда разводиться. Поэт уже не принадлежал и ей.
— Ну, и как вы тут живете? — спросил он.
— Да так вот и живем. Второго папку своего ждем не дождемся...
— Какой же он... Даже в качестве второго... — вырвалось у Федора Ивановича.
— А у кого нет недостатков? Поэтов на близком расстоянии рассматривать нельзя. На них можно смотреть только издали, — сказала она, наливая ему чаю.
Она была не то, что Кеша. Ее колесо жизни, похоже, остановилось, и угол не менялся. Она ждала своего поэта.
— Вы же знаете, где сейчас Кондаков? — спросила она. — Его ведь...
— Да, да, — поспешил он ответить.
— В конце концов отпустят. Как думаете? Дождемся? Все-таки законный муж... Ничего ему там не сделается. Он же оптимист!
— Эт-то верно.
— Вот только Андрюша вырос...
— Вопросы задает?
— Хуже. Он молчит. Откуда-то что-то узнает и молчит.
— Этого следовало ожидать. Но у вас преимущество. Он мальчик, ему только...
— Двенадцать, — подсказала она.
— А вы...
— А мне за тридцать... Все равно, дети умеют и взрослых... Им и ответа не нужно...
— Конечно, такая ситуация... Такое положение... Порождает вопросы. Может быть, даже не вопросы, а ясность... Которая не требует слов.
Нечаянно высказав это, Федор Иванович поспешил отхлебнуть чаю, чувствуя, что он открыл дорогу нелегким объяснениям.
— Вы его ученик, а я — его ученица. Вам это говорит что-нибудь? Я была его ученица! И я портила русские породы скота по методу Рядно. Старинные, выдержанные русские породы. Вот что я делала легкой рукой. С его легкой руки. Вот, кто я была, пока не начало проясняться.
— Вам эту ясность поэт принес?
Она сильно покраснела, как умеют краснеть белые блондинки. Стыд парализовал ее. Но только на секунда.
— Поэт внес другую ясность. Когда в степи умирает кто-нибудь, какая-нибудь несчастная животина... Антилопа. Сразу начинает кружиться хищник. Они там дежурят...
— Это слова академика, — сказал Федор Иванович. — Он говорил...
— Говорил? Мои это слова. Я ему один раз сказала. Говорю: интересно как — хищник летает где-нибудь за тридевять земель и обязательно почует ведь чужую беду...
— Я это пересказал и Кондакову. Он ответил...
— Не говорите, знаю... — она опять покраснела. — Я ему тоже говорила. Прямо в глаза. И он мне ответил, тоже в глаза. Мясо в природе не должно пропадать. Так ужасно брякнул...
— Так это же Кеша!
— Во-от... Был такой момент, подыхать я стала. И с ума съехала. Думаю, не было у меня гиганта, одна фантазия. Я же шла не за силу замуж, а за труд великий, за талант. Я — за образ шла! Образ в человеке держится дольше, чем телесная свежесть. Этим и объясняется, что можно полюбить и старика. Мазепу. Тут главное — прикоснуться хоть к гиганту, Федор Иванович! И вдруг узнаешь, что гиганта не было.
— Гигант все-таки был, Ольга Сергеевна. Но он живой человек, и он вас любил. Это тоже непросто. Видимо, любуясь им как гигантом, вы дарили ему какие-то мгновения, которые парализовали в нем на время... Надо было не любить...
— Попробуй, не полюби... — она усмехнулась. — Вы говорили с ним обо мне?
— Да, у нас был однажды длинный разговор... Он ведь тоже образ любил, вот ведь что. Он же вон там, против вашего балкона... Нет, этого я вам не скажу. И потом, не слишком ли вы строги к нему? Не он, Ольга Сергеевна, крутил всю эту мясорубку. Он в нее попал...
— Конечно! Если бы он крутил, я и не взглянула бы на него. Но он соучаствовал. В форме процветания.
— Он это делал для вас.
— Так я же сама входила в это его процветание! Как часть комфорта. Я это поняла, и так стало мне...
— И антилопа захромала?..
— Захромала. А хищник тут же и заходил над ней, не имеющей сил. Кругами. Не должно же пропадать... это самое... И вот мы теперь его ждем. Даже с нетерпением...
— Даже так! — Федор Иванович ужаснулся.
— А что? Вы как-то странно сказали это... Пострадал ведь человек. В том же котле. Я хочу сказать, оттуда приходят другими людьми. Не знаю, как получится. Привыкла к нему. Когда такое случается, как с ним, особенно привыкаешь...
— Но гигант был, Ольга Сергеевна.
— Был бы — все пошло бы иначе.
— «Письмо, в котором денег ты просила, я, к сожалению, еще не получал»... — продекламировал на эти Федор Иванович.
Она умолкла, смотрела в чашку, вникая в смысл этих странных слов, и смысл этот уже виднелся ей издали — потому и начала розоветь. Но в руки он еще не шел.
— Ну, и что? — наконец спросила она.
— А то, что вы прикоснулись к гиганту. Вы прикоснулись к нему, как того и хотели. Образ был подлинный, без фальши. Но вы своего гиганта увели от цели. Позволили ему вить гнездо. Небось, вместе. И молодцы, и хорошо. А потом вы разочаровались, не понравился в халате. А он, как освободился от вас, опять стал гигантом! Ну, и принял, конечно, свою судьбу. А мог бы и не принять. Если бы вы сделали твердый выбор. В пользу спаленки с розочками. Или если бы открыли шкаф и показали ему: вот я купила телогрейки стеганые. Тебе и себе. И кирзовые сапоги. Плюнь на розочки, не береги меня, оставайся гигантом. Уедем, не будем портить скот, спасем златоуста от черной лжи... А? Могли бы?
— Утопия, утопия, Федор Иванович! — слишком горячо и весело заявила она. — Все, что я должна была купить и сказать, все это должен делать мужик. Слишком большой груз валите на женщину, — говоря это, она все-таки не глядела на него.
— Может быть, может быть... Но вы сами говорите — Андрюша молчит. Вы же не с гигантом ушли. А со специалистом, который клюет мертвечину. Тут все и открывается. Никогда не развивайте перед Андрюшей ваших аргументов...
Сильно порозовевшая, она смотрела в чашку, вылавливала ложечкой чаинки. Потом поднялась.
— Пойду поищу его.
«Кеша не врал, наверняка приедет. Как бы подготовить ее?» — в который уже раз подумал Федор Иванович.
— Вот если вдруг на вас свалится... неожиданное страдание... — проговорил он задумчиво. — Не знаю, плевать ли мне через левое плечо или не плевать... Если свалится врасплох... Тут у вас все может стать на место. И Андрюша перестанет молчать.
— Пойду поищу...
Мальчик прибежал один. Влетел, оставив открытой дверь с лестницы.
— Здравствуйте...
Он сильно вырос. Был тонкий, белоголовый, как мать. А голова — отца. Широкая в висках и заостренная книзу.
— Ты помнишь меня? — спросил Федор Иванович. — Мы дружили с твоим папой. Он мне поручил передать тебе вот это...
Мальчик тут же развязал шпагат, потащил с картины длинную полосу гремящей бумаги. Показалась работница в красной косынке на фоне красных знамен, чисто и строго посмотрела из своих двадцатых годов. Вывалился и стукнул конверт. Мальчик схватил его. Долго, осторожно разрывал. Вытащил наконец письмо. Бегая глазами, водя головой вправо и влево, начал было читать с обратной стороны. И напряженно следящий за ним Федор Иванович успел охватить мгновенным взглядом слова: «Мальчик мой русоголовенький! Малявочка светлая!..». Тут же отвел глаза, чтобы не вникать дальше в священную тайну. Мальчик шелестел бумагой, принимался снова и снова жадно читать. Потом принес из другой комнаты белый картонный кошелечек и осторожно вложил туда лист, расправил, проследил, чтоб хорошо там лег.
— Сам сделал?
— Да, — отчетливо ответил мальчик.
— Андрюша... — сказал ему Федор Иванович. — Тебе, наверно, будет важно узнать... Я ведь был товарищем твоего папы. Хочу тебе сказать, что он был хороший человек... Но не все об этом знали. Такое мы переживали время, Андрюшенька... Что хорошего человека могли и не понять... И сразу начинали кричать, кричать, что он очень плохой. И кричали-то от страха, а не потому, что действительно... Привычка такая была. Встречались еще, и довольно часто, и по-настоящему плохие. Требовали, чтобы все были похожи на них. И кто умел притвориться, того называли хорошим. А чтоб быть по-настоящему хорошим... Это значит — делать хорошие дела, а не только говорить о них... Чтоб быть таким, приходилось иногда казаться похожим на плохих. Потому что иначе и дела не сделать было. А кто открыто казался хорошим, того следовало опасаться. Надо было проверять и проверять. Потому что он мог оказаться притворщиком.
— Вы мне как ребенку объясняете, — сказал мальчик без улыбки. — Все равно спасибо. Так понятно все это сказали. Он был вейсманист-морганист, я знаю. А приходилось читать лекции о наследовании благоприобретенных признаков.