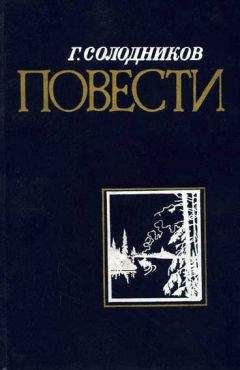И зачем только начал он этот разговор, так обнаженно разжалобился перед нею? Плел про свое застарелое одиночество, про скороспелую и скоротечную, теперь уж далекую, семейную жизнь: про то, как жестоко обманулся тогда и как сейчас ничего почему-то не получается даже из серьезных намерений. А Сармите, видимо, только этого и не хватало. Кто знал, что у нее накопилось столько тоски, столько невысказанной и невыплаканной боли. Достаточно оказалось лишь одного, последнего, толчка, чтоб невидимая преграда в душе прорвалась и девушка ответила на его излияния еще большими откровениями.
Потом она подошла к столу, задержалась на миг и кинулась к кровати, безудержно зарыдав.
Русин был ошеломлен, подавлен.
Он присел рядом с Сармите, осторожно прижал к себе и стал легонько гладить по спине, все еще немножко растерянно приговаривая:
— Ну что вы. Успокойтесь… Все пройдет. Все наладится, будет хорошо… Поверьте мне. Вы ж славная, не может у вас всегда быть плохо.
Сармите постепенно затихала, лопатки перестали вздрагивать под его Ладонью, замерли, словно из боязни, что он отнимет руку. А Русин, ощутив под пальцами беззащитное тело, его теплоту и трепетность, притягивал ее к себе, как бы продолжая успокаивать, умоляя забыться. И Сармите прижалась к нему, уткнулась лицом в грудь и жарко зашептала:
— Ребенка хочу! После будь что будет — хочу ребеночка.
Слова эти обжигали, дурманили Русина. Не совсем сознавая, кто с ним и что вокруг, он зарылся лицом в ее волосы и жадно вдыхал их сладковато-терпкий запах. Почти не владея собой, не сразу и понял, что рука его стала предательски своевольной, соскользнула с девичьей спины. И лицо Сармите уже не на груди у него, а рядом с его лицом, щека к щеке. Не слышно стало ее шепота, лишь обжигающее дыхание в самое ухо…
Теперь Сармите неподвижно стояла у окна, спрятав лицо меж занавесок, и было непонятно: то ли она снова молча плачет, то ли глядит во тьму, обретая утраченное на момент душевное равновесие.
Русин тоже онемел: так быстро и ошеломляюще непонятно все произошло. Ведь у него в тот миг не было ни единой четкой мысли, никакого ясного желания или позыва к определенному действию. Он, в общем-то, ничего и не пытался предпринимать, повернуть ход событий в ту или иную сторону. Просто что-то неуловимо сверкнуло в его сознании, скользнуло холодной змейкой. И движения-то, кажется, никакого еще не было. Лишь неясная команда телу: шевельнуться, отодвинуться, встать ли — даже ему самому. Но Сармите враз почувствовала перемену. А может, и с ней происходило то же самое? Она отшатнулась, резко поднялась с кровати я отошла к окну, на ходу оглаживая юбку.
— Извините, Николай. Нервы. Это пройдет.
Удивляясь своему внезапно наступившему спокойствию, даже холодности, Русин пытался восстановить переломный момент, разобраться в нем и определить исток недавнего полуосознанного предостережения: не заходить далеко, чтобы позже не маяться с опустошенной душой, не терзать себя за минутную слабость. Николай встал, деловито и неторопливо поправил одеяло, аккуратно уложил подушки.
Сармите робко шевельнулась у окна, готовая идти к себе и наверняка думающая о том, как это проще сделать. Николай сидел за столом, тоже еще пока не найдя верного первого слова. Да он, пожалуй, и не искал его, понимая, что сейчас самое лучшее — молчание.
Перед дверью затихли шаги, раздался осторожный стук. И Русин, совершенно убежденный, что это вернулся с танцев Ваня, сказал громко и даже с каким-то вызовом в голосе:
— Входи, входи. Здесь не запираются.
* * *
Утром Сармите уезжала.
Николаю до сих пор было неловко за вчерашнее, хотя он отлично понимал, что ни в чем и ни перед кем не виноват. И все-таки где-то в тайниках души тяжело ворочалось сомнение. Может, не надо было усложнять, а бездумно покориться случаю, пойти у него на поводу? А может, именно сейчас он не прав и сам придумал несуществующую обиду Сармите? По ней, в общем-то, этого не заметно. Вполне возможно, что она казнит как раз себя и, наоборот, благодарна ему за сдержанность. Впрочем, какое это имеет теперь значение…
Когда они проходили мимо группы парней, кто-то съязвил по их поводу. До Русина донесся обрывок фразы: «Сорвали ягодку…» Не успел он обернуться и взять на прицел остряка-самоучку, как услышал тяжелый хруст снега под ногами в стороне от тропы и Ванин запалистый говорок: «Счас поговорим? Или на потом отложим?» Русин усмехнулся, чуть посторонился, подождал Сармите и взял ее под руку.
Он никак не мог настроить себя на беспечный лад, не придумал ничего ободряющего для Сармите и сказал то, что просилось само:
— Сарми, прости, если что не так.
— Перестаньте. За что вас прощать. Все хорошо. — Она нежно коснулась его руки, все еще держащей на весу чемодан, и отвернулась.
Катер уже подходил к берегу, пробивая тонкий ночной лед, и тот жалобно пел и повизгивал, и змеились во все стороны от носового штевня прозрачные трещины.
Надо было спускаться к воде.
Они взошли по трапу последними. Русин передал чемодан, на несколько секунд задержал в руке холодные тонкие пальцы Сармите и сбежал вниз. Катер сразу же натужно спятился и развернулся вдоль берега. Николай поднялся на откос, прошел по его кромке и долго стоял, глядя вслед удаляющемуся суденышку.
Солнце разгоралось все ярче. Остатки тумана робко колыхались лишь над самой серединой воды. В бору было чисто и буднично. Снег лежал четко расчерченный глубокими тенями. Сосны стояли тихие, умиротворенные, словно уставшие от морозного щедрого цветения. Только на немногих деревьях поближе к воде еще белели снизу кружевные оборки, как зыбкое напоминание о недавних сверкающих инеем днях и как обещание в будущем новой серебряной сказки.