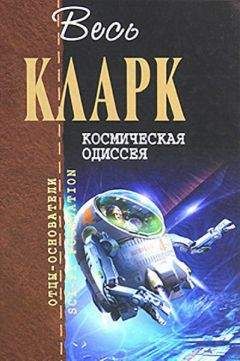– Полез… – ответил он коротко, взял картошку и стал чистить. – Мишка опять набрался?
Сын Аггея поднял голову.
– Я никогда не набираюсь, – сказал он раздельно.
– Вторую усаживаешь?
– Третью… Первую… мы на воде…
– Много взяли?
– Так себе… ветер…
– Эй, карасик, – обратился Аггей к Мымрику. – Иди сюда. Я тебе чарочку налью. Так и заболеть недолго.
В этом месте на старика опять напала рыбья болезнь. Он захрюкал и задергал копытцем.
– Али ты субрезгуешь? – спросил дед, освободившись от своей странной болезни. – Так эта трясучка не заразная. Я уж тут твоим карасикам рассказывал. От сома это произошло. Сом меня в омут уволок. Чуешь, карасик? Сом поволок.
Мымрик не реагировал.
– Али ты на неводы обижаешься? Тут уж, карасик, не обессудь, работа у нас такая. Рыбкой, как правило, живем. Подле всего острова неводы.
– Пока мы подбежали, он по самые уши запутался, – вдруг захохотал Чернобородый. – Чуть колуном не пошел на дно.
– Ах вы, гады! – вдруг закричал Мымрик и кинулся прямо на стол.
Чернобородый быстро запихнул в рот картошку и, жуя, ловко и деловито подставил Мымрику ногу. Тот рухнул, зацепив стол. Бутылка с остатками самогонки упала. Вонючая струя полилась на пол.
Михаил, пошатываясь, встал с табуретки и подошел к пытавшемуся подняться Мымрику. Некоторое время он смотрел на него пустым, немигающим взглядом, потом равнодушно, механически ударил сапогом.
– Ой! – вскрикнула девчонка.
– Михаил! – строго сказал Аггей. – Не балуй.
Плешивый так же механически ударил второй раз.
– Не балуй, – опять предупредил отец.
Но сын не слышал его. Сохраняя на лице тупое выражение, он продолжал бить.
Мы вскочили со своих мест.
– Остановите его, – сказал Тихон Егорович. – У него же кованые сапоги! Забьет!
– Может, и тебе хочется их попробовать? – ухмыльнулся Чернобородый, продолжая закусывать.
– Разлил… разлил, – бормотал Михаил.
Аггей медленно встал из-за стола, неспешно вытер руки о штаны и направился к сыну. Удар пришелся в челюсть. Михаил свалился на пол и тут же вскочил, как неваляшка.
– Сказал, не балуй.
– Напрасно, пусть бы отвел душу, – опять усмехнулся Чернобородый.
– Нехай идут спать. Идите, карасики. Пока по двое вальтами спать будете, а завтра расселим, как правило.
Старик открыл крышку погреба. Мы прошли мимо кадушек, пахнущих кислой капустой и огурцами. Шедший впереди Николай поднял еще один люк. В желтом свете коптилки открылся темный ход с белевшей лестницей. Я осторожно спустился по перекладинам. Николай уже стоял внизу и светил фонариком. Мы очутились в просторном помещении, вдоль стен которого были сооружены широкие нары, в углу стоял стол с тремя табуретками, в противоположном углу – ведро с водой.
– Ну, бывайте. Спокойной ночи, «карасики», – засмеялся Николай.
Николай полез вверх. Хлопнул тяжелый люк. Лязгнул засов, заскрипел в замке ключ, и мы очутились в полнейшей темноте, глубоко под землей. Да, отсюда не убежишь…
Вчера не имел возможности писать. Сегодня Тихон Егорович выпросил у Аггея лампу, я сижу за столом. Позавчера, т. е. 4 августа, пожалуй, был самый удивительный день изо всех, хотя каждый, конечно, из этих деньков хорош по-своему.
Утром нас по одному вывели из этого каземата и усадили за стол.
Наш завтрак был скуднее, чем ужин, и состоял из миски не очень густого и не очень наваристого борща, куска хлеба и кружки кваса. Это, конечно, объяснялось тем, что хозяева уже позавтракали, а пленникам, разумеется, полагается другое меню.
Завьялов ел с шуточками и прибауточками, но все время морщился, болтая ложкой в чашке в поисках мяса. Видно, такая разновидность «натуры» ему совсем не улыбалась.
Мы еще не кончили завтракать, как в дом Аггея стал прибывать народ. Пришли уже знакомые нам Чернобородый, Николай, плешивый Михаил и еще два незнакомых мужика. Один из них был длинный, худой и какой-то весь белый. Белым у него было все: и лицо, и глаза, и голова, и кисти рук. Даже язык, когда он разговаривал, высовывался белый. Впрочем, разговаривал он очень мало, так как сильно заикался; его звали почему-то женским именем – Катя…
Другой был, наоборот, черным, маленьким, подвижным, чем-то напоминал черкеса. Он не говорил, а кричал.
– Вот эти? – заорал сразу же с порога Черкес. – Где ты набрал этих уродов? От них, как от быка молока! Ты посмотри на этого старика! Посмотри на его пузо! (Тихон Егорович подобрал живот и нахмурился). А это что за ребенок! Зачем вы привезли ребенка? Что у нас здесь, детский сад, а?
Черкес подбежал к Сундукову, надавил двумя пальцами ему на щеки, как делают с лошадью, когда хотят посмотреть ее зубы, и возбудился еще больше.
– Гнилой пень, а не зубы!
– Ладно, ладно, – Чернобородый постучал ложкой по столу. – Давайте по порядку. Начнем с повара. Как тебя зовут?
– Тихон Егорович Завьялов.
– Так… Завьялов Тихон Егорович… Сколько годков?
– Сорок восемь.
– Что умеешь делать?
– Я повар.
– Еще?
– Ну… немного плотничаю… могу лечить как людей, так и животных. В разумных пределах, конечно.
– Иди-ка сюда.
Тихон Егорович приблизился к Чернобородому.
– Давай руку. Садись.
Они сели друг против друга, поставили локти правой руки на стол и стали играть в известную всем мальчишкам игру «кто кого положит».
Положил Чернобородый, хоть и с некоторым затруднением.
Все манипуляции с Тихоном Егоровичем произвели впечатление на присутствующих.
– Сколько? – спросил Аггей.
– Полторы, – ответил Чернобородый.
Все недовольно загалдели.
– Ты что, озверел?
– Ему уже за сорок!
– А брюхо какое!
– Сорок лет – бабий век, а у мужика – самый цвет. А брюхо порастрясется, – огрызался Чернобородый.
– Отдавай за восемьсот.
– Что?!
– Тыщу.
– Бери уж, так и быть, за тыщу двести. Попробовал бы с ними поцацкаться всю дорогу. А если бы накрыли?
– Эй, дядь! Покажи зубы.
Поднялся галдеж. Завьялов стоял посреди комнаты, скалил зубы и переминался с ноги на ногу. На его лице не было ни удивления, ни растерянности. Зато мы с Романом вовсю таращили глаза. Мы абсолютно ничего не понимали.
– Тыщу!
– Тыщу сто!
– Ну и жмот!
– Сам ты жмот!
– Чтобы я когда связался с этим делом! Да будь я проклят! Столько риска за тыщу! А он его будет сосать несколько лет.
– Ты попробуй его прокорми!
Сторговались на тысячу сто пятьдесят. Завьялов достался Аггею.
Следующая очередь была Романа. Сундуков приглянулся плешивому Михаилу и Кате. Между ними разгорелся торг. Торговались они очень своеобразно. Михаил сидел за бутылкой самогонки и даже не смотрел в сторону Сундукова. Лишь когда Чернобородый фиксировал повышение цены, он цедил сквозь стиснутые зубы:
– Врешь, не уйдешь… – и набавлял цену.
Катя же исследовал Сундукова, как врач пациента. Он щупал его, мял, заглядывал в рот, зачем-то дул в уши, и то довольно щелкал языком, то качал белой головой.
– Простудами часто болеет… простудами, – шептал он. – Семьсот.
– Семьсот пятьдесят! – тут же отзывался плешивый Михаил.
– Хватит баловать, – сердился Аггей. – Пусть возьмет человек. Тебе для забавы, а ему работать.
Слова «для забавы» окончательно сразили Романа. Он и до этого не сводил глазе Кати, мысленно умоляя не отступаться от него, а теперь он без содрогания не мог слушать хрипения Михаила. То ли денег у плешивого было побольше, то ли им руководило упрямство, а не благоразумие, но Михаил набавлял цену не задумываясь, в то время как Катя все тщательнее ощупывал бедного Сундукова и все больше и больше делал паузы между цифрами. Вскоре стало ясно, что Сундуков достанется плешивому.
– Последний раз прошу – не балуй; – предупредил Аггей своего сына. – Без надобности он тебе.
– Найдем надобность, – криво ухмыльнулся Михаил, и в его глазах опять забился, как в первый вечер, волчий огонек.
– Правильно, Мишка! – закричал Черкес. – Бери! Самогонку гнать будет! Ишь морда, не доволен, мы ему покажем! Помнишь, как того ты вышколил! Ж… лизал!
– Дяденька, – взмолился вдруг Роман. – Ну, купите меня! Я весь здоровый! Я, честное слово, весь здоровый! У меня третий разряд по физкультуре. Зимой я на двадцать километров на лыжах запросто ходил!
Сундуков стал очень нескромно превозносить свое здоровье и свои спортивные достижения.. Он обещал работать, как зверь, рассказывал о своей выносливости, силе и в доказательство даже хотел выжать одной рукой за ножку табуретку. Но табуретка оказалась очень тяжелой и свалилась на голову Сундукову. Не знаю, как Тихону Егоровичу, но мне было стыдно за студента философского факультета. Несмотря на атлетические данные, Роман все-таки достался бы Плешивому, так как тот догнал уже цену до двух тысяч и, судя по всему, не думал отступать, но тут в дом вошел новый человек, и торг сразу прекратился. Вошедший был одноногим. Его угрюмое лицо с красными выпученными глазами повернулось к каждому и немного поморгало, запоминая.