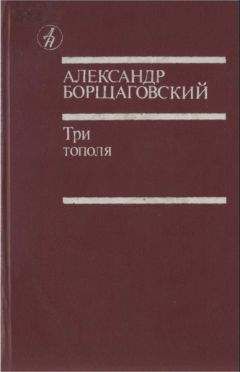Грачев вернулся раньше обычного: Лог уже знал о приезде жены, и его отпустили домой. Он увидел темный зев плиты, золу и остывшие угли за распахнутой дверцей, понял, что Клава не закрыла вьюшки и выстудила избу. В сердце вступил покой: значит, Роза не приходила, а ведь могла прийти — никто не мог наперед сказать, как она поступит.
Он нашел Клаву спящей и не стал будить, принес охапку длинных поленьев, по-таежному щедро набил ими печку и разжег с одной спички. Сел у огня на скамеечку, вытянув покалеченную ногу, и не закрывал дверцы, пока можно было терпеть жар открытым, чуть откинутым назад лицом и грудью, которую жгло сквозь белье и сатиновую рубаху. Сидел голодный, потому что предпочел не заходить сегодня в столовую, спокойный, будто все самое трудное уже позади. Слушал, как скрипит железная сетка, когда Клава ворочается, и ее невнятное бормотание, а в проеме двери видел свесившуюся худую руку, полупальто с черной стеклянно-блестящей пуговицей. Когда теплынь растеклась по дому, Сергей тихо вошел в комнату и встал в двух шагах от спящей жены.
Грачев стоял над женой, боясь разбудить ее взглядом и не имея сил отвести глаза: вот теперь, с повисшей, голубеющей в сумерках рукой, неподвижная, с неприметным глазу дыханием, исстрадавшаяся так, что, казалось, и кожа лица была отполирована болью, теперь она говорила ему о прожитом больше, чем когда вспоминала о сыне, о Полинке, об овдовевшей соседке. В ее незащищенности, в острых коленках и сухоньких пальцах рук, в живом образе одиночества и потерь для Грачева было больше смысла, чем во всех словах, которых он наслушался за жизнь. Бедная, бедная, бедная! — мысленно повторял он и в этот миг не думал ни о потерях, которые невозвратимы, ни о своей вине перед ней, ни о том, что он, если захочет, уедет через несколько дней отсюда, ни об овраге за колодцами, ни о том, что кроме Лога на свете существуют города, ни о прошлом, ни о будущем, а только вот о ней, разомлевшей в одежде среди быстро загустевшей духоты, о ней, бедной, бедной, бедной, которая хлопотала и ждала, ждала и хлопотала, как-то жила без него, но жизнь ее была одни хлопоты и ожидание. Все это было написано на ее лице с такой отчетливостью, так несомненно, как только в букварях пишут для малых детей первые слоги и буквы.
Он опустился на колени, склонился над женой, чтобы уловить ее дыхание, но тщетно: Клава и в молодости спала так, что, случалось, он в тревоге прислушивался — дышит ли? Коснулся ее руки, согнув в локте, бережно уложил на постель, и Клава открыла глаза. Взгляд ее еще отсутствовал, не искал и, может, даже не помнил его, еще надо было пробиться к мысли, к сознанию, к боли, с которой она уснула. И когда Клава вынырнула из сна, она хотела отшатнуться, но лежа это было трудно, и могло показаться, что она просто вздрогнула от испуга.
— Это я, — сказал он.
Она блуждала взглядом по комнате, в сумерки совсем чужой и новой.
— Поздно уже?
— Я давно вернулся. Пришлось топить, ты вьюшку не закрыла.
— Забыла.
— И хозяйка не приходила? — Он подождал, что скажет Клава, но она молчала. — На тебя понадеялась.
И снова она не откликнулась.
— Ты здорова ли?
Уже ему казалось нелепой его поза: будто что-то закатилось под кровать, а он на коленях искал, шарил. Грачев присел на край кровати, потеснив жену, положил руку на ее лоб, небрежно, как если бы это был кто-то чужой.
Клава не шелохнулась, лоб лег в его ладонь теплой выпуклостью, жара не было. Грачев хотел отнять руку, но ее задержали легкие, нетерпеливые Клавины пальцы, повели вниз, по глазам и щекам, по жадным, подвижным губам, к подбородку, к тонкой, напряженной шее.
— Губами попробуй, Сережа, — попросила Клава.
Он ткнулся губами выше переносицы и не отнял губ, а скользнул ими по лбу и прижался к виску, там, где учащенно билась жилка. Клава обняла Сергея за покатую спину, блаженно закрыла глаза и заговорила часто, словно бы невпопад:
— Ведь не чужие, не чужие мы! Сереженька!..
— Что ты, Кланя?! Чего тебе такое в голову пришло?! — Он провел губами по жесткому остью брови, по щеке, нашел ее губы — крупные, живые, мускульно-подвижные, будто у них была своя отдельная жизнь.
— Не чужие мы… — выдохнула она, когда Сергей отнял губы. — И не отвыкли… разве родные отвыкают?!
— Мы с тобой жизнь прожили, а ты о чем? — все больше удивлялся он. — Слава богу, не дети.
— Увидишь, все будет хорошо, — благодарно вздыхала Клава. — Забудешь обо всем, как будто и не расставались. Те, что в армию ушли, их тоже не было пять лет.
— Не забуду, — сказал он, трезвея. — Не хочу забывать.
Она все еще обнимала его, но руки теряли смелость: они ощутили вступившую в его тело инертность, оскорбительное равнодушие. Только мгновение казалось ей, что и у него возникло желание, и оно сделает его жадным и непререкаемым, а она не посмеет сказать ему, что в этом доме нельзя, нехорошо, невозможно, нужно набраться еще немного терпения. Только мгновение — и все позади, ее руки разомкнулись, упали, а он сидит, склонившись над ней, и настаивает на своей правоте, хотя Клава не спорит с ним.
— И здесь была жизнь, почему я должен вычеркивать ее?! Шестая часть жизни, ну пусть седьмая: кто знает, сколько я проживу.
— Ты теперь моложе меня, Сережа!
— Ты и в старости девчонкой будешь, а до старости тебе век. — Он просунул руку под ее спину, Клава приподнялась потянулась ему навстречу. — Сломал я тебе жизнь, Клава.
— Никогда не говори этого: я жила, как все. Война всем принесла горе, в каждый дом.
— А тебе вдвое! — сказал он с обидой.
— Нет! Только мальчик, только это несчастье, ужас, а другого не было… Ты не сердись, но я заставила себя так думать, я знала, что мы встретимся, будем вместе.
Он молча приподнял Клаву и нетерпеливо мял ее плечи, шею, ее напрягшуюся спину, будто хотел придать им привычную его рукам форму или искал что-то очень давнее, чего уже не помнил мозг, но должны были помнить пальцы. Целовал шею, огнем вспыхнувшую щеку, увлажненные глаза, губы; желание владело им, но чувство вины было сильнее, все еще жил в нем страх перед ее верностью и чистотой. И Клава женским инстинктом почувствовала это и поняла, что теперь все зависит от нее одной…
Их разбудили голоса: громкие, хмельные. В комнате темно. Заиндевелое окно глухо проступало на стене, за его призрачной толщей хороводились бабы, выкрикивали частушки, скрипели калиткой и ссорились.
— Суббота, пошабашили… — Сергей прислушался, сказал встревоженно: — Роза напилась, теперь пойдет чудить.
— Чего они? — Клава испуганно опустила ноги на половик. Ей было трудно разобраться в чужих голосах: кто-то подвывал, будто плакал, затрещал штакетник, голоса перешли на крик.
— Не слышишь? Хозяйка домой хочет, а они не пускают.
— Кто?
— Бабы. Они у нас отчаянные. Из лесу вернутся, по баночке примут и за песни.
Он словно ключ ей подал, жизнь за стенами избы открылась Клаве. Хозяйка рвется в калитку, а ее оттаскивают, и она ревет, и просит, и ругается, и все напрасно, женщины стоят на своем и не пускают ее в дом, где спит конторщик с женой, потому что она, Розка, свое взяла, пожировала, погрела бока, попользовалась, и никто ей на дороге не становился, а теперь пусть не мешает хорошим людям. И хотя слова были прямые и грубые и касались они ее — Клавы и Сергея, — ей не было стыдно, и не было ощущения пошлости и грязи. Только слов Розы было не разобрать, она визгливо огрызалась и рвалась в калитку.
— Позови ты ее, ради бога! — Клаве стало жаль белолицей, нескладной бабы. — Нельзя же так.
— Тут свои обычаи. Их не переделаешь, — безучастно сказал Сергей. — Они ей зла не хотят. Шутят.
Не похоже на шутку; кажется, Розу держат силком, а она заревела от бессильной злости.
— Ну, Сергей! Сергей, это невозможно. — Клава засуетилась по комнате, натыкаясь на табурет, сминая половик. — Хорошо, я пойду… Разреши мне.
— Хочешь — иди. — Он прислушался к голосам, пока Клава надевала валенки. — Поладили, уходят… Сейчас запоют, весь Лог на нош подымут.
Клава уже гремела крюком, распахивала наружную дверь. Женщины, подхватив под руки Розу, двинулись от калитки, снег визжал под ногами, мороз и в безветрие перехватывал дыхание.
— Роза-а! — позвала она, и все повернулись на голос. Она узнала женщин, которых повстречала на рассвете в поле, и ту, что стояла в головных санях, и других. — Что же вы в дом не идете?
Роза смотрела на нее, не узнавая, не сердясь, что чужая зовет ее в собственный дом, смотрела равнодушно, будто не она только что цеплялась за штакетник и, обламывая ногти, тащила за собой упиравшихся баб.
— Ее зовешь, а нас? — послышался чей-то голос. — Нам на морозе пропадать?
— Мы и вам будем рады. — Клава смутилась. — Только угощать нечем.
— У Розки найдется! У нее в загашнике всегда есть.