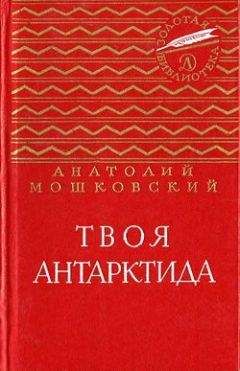После этих слов я окончательно возненавидел Верку. Я не мог видеть ее тонких, прилежно поджатых губ и карих раскосых глаз, не мог слушать ее точные, спокойные ответы, ее смех на переменках…
Особенно меня поражала ее аккуратность. Даже в осеннюю грязь приходила она в чистых ботинках, на ее пальцах и лице никогда не было чернильных клякс, тетради ее ставились в пример другим, ее косички с бантиками всегда были тщательно уложены: ни прядка, ни один даже волосок не выбивались на ее лоб, чистый и умный. Ее внимательность на уроках была выше моего понимания.
Нет, нужны были срочные меры!
Недолго думая я выдрал из тетради лист, сунул мизинец в непроливайку и вывел огромными фиолетовыми буквами: «Я дурочка». На переменке сбегал в канцелярию, мазнул обратную сторону листа клеем и незаметно приклеил лист на спину Верке.
Успех был полный. Ни о чем не подозревая, ходила она по школьным коридорам, и вслед катился смех. Верка ничего не понимала, краснела, металась из угла в угол, как затравленный волчонок, пока лист не отвалился от ее спины – клей в канцелярии оказался неважным.
На следующий день Верка носила по коридорам огромное объявление «Ищу жениха!», и хохот всей школы громыхал за ней по пятам. Верка припустилась назад и укрылась в классе, где Петя и сорвал с ее спины лист.
Верка глянула на лист, и глаза ее наполнились слезами. Сморгнув их, села за свою парту, отвернулась к стенке, и мне было видно, как вздрагивает ее спина.
Я торжествовал: получила по заслугам!
Но кто-то выдал меня. В классе нашелся предатель. Меня отчитал классный руководитель и пообещал рассказать обо всем отцу. Но это было еще не все.
На большой переменке ко мне подошел Петя, этот раб и слюнтяй, подошел – маленький, бледный, с серьезными глазами – и, заикаясь, сказал:
– Вввы-вызываю тебя на дуэль.
Я даже опешил: он и дуэль – это просто не вязалось. Ни с кем еще он не дрался и драться не собирался!
– Проваливай! – сказал я. – Что с тобой связываться? Вначале стрелять научись.
И здесь случилось непостижимое. Все ребята, как сговорившись, заорали:
– Нет, ты не должен отказываться! Это против закона!
Я даже отступил к стене. Я ничего не понимал. Ну что я сделал им плохого? Только проучил эту самую Верку, и здорово проучил. То все были за меня и смеялись, а то вдруг переметнулись на сторону Петьки. И среди них был даже Женька Пшонный… Вот она какая, оказывается, жизнь!
«Ну что ж, драться так драться», – твердо решил я и поклялся посильнее влепить в его лоб пулю. Пусть знает, как иметь со мной дело. И всем им отомщу!..
Тут же были выбраны секунданты, отмерены десять огромных шагов в проходе между партами. Всеми приготовлениями распоряжался сам Пшонный. Он провел мелом на полу две черты и приказал закрыть на стул дверь, чтоб не вошел дежурный по этажу учитель.
– Уважаемые дуэлянты, – обратился к нам, как требовали правила, Женька, – в последний раз предлагаю вам помириться, пойти на мировую и подать друг другу руку. Ты виноват перед Верой, извинись, и все будет…
– Нет! – закричал Петя. – Никаких извинений – будем стреляться!
– А я и не собираюсь извиняться! – отрезал я. – Принимаю вызов.
Я был уверен, что Петя доживает свои последние минуты на этой земле, и твердо, сквозь зубы произнес:
– Прощайся с жизнью, презренный!
Нам были выданы очки-консервы и по одной пуле Женькиного производства: они должны быть одинаковыми. Потом Пшонный оглядел наши «пистолеты» – надетые на пальцы резинки – и важно сказал:
– Противники, на линию огня!
Мы стали возле начертанных мелом линий, и Пшонный проверил, чтоб ботинки ни одного из нас не переступили их.
– Начинайте! – деловито сказал Пшонный.
Мы стали целиться.
До боли сжав губы, я оттянул насколько мог назад резинку – удар должен быть точным!
Большие квадратные очки, туго сжатые на затылке ремешками, больно врезались в щеки. Все, кто был в классе, выстроились у стен. Я хладнокровно целился в розоватый Петькин лоб. Вдруг кто-то задергал дверью, и стул, одной ножкой продетый в дверную ручку, запрыгал.
Я готов уже был выстрелить, но отвлекся на мгновение, и вдруг… нет, в это нельзя было поверить… в мою грудь ударила пуля.
– Падай! – заорали ребята. – Падай, ты убит!
Я продолжал целиться, но кто-то вырвал у меня «пистолет», меня схватили, приподняли и силой уложили на пол – таков был ритуал.
Потом я встал, сорвал с лица очки-консервы, сдернул с пальцев резинку и ушел в коридор. Я не хотел никого видеть. Они предали меня и были рады моей гибели, а я дружил с ними, считал их добрыми, любил их… Предатели! И как это Петька попал? Но что я мог поделать? По принятому нами же закону отныне я на неделю лишался права участвовать в дуэлях и должен был подчиниться этому.
Я был убит на дуэли, и, как понял это позже, был убит по заслугам.
1963
Как-то в детстве я увидел старую фотокарточку отца, студента Московского учительского института. Он был молод, очень похож на себя, но волосы у него были темные, совершенно темные – ни одного седого волоска!
Неужели он когда-то был не седой? Иногда мне казалось, что он и родился седым…
Он был стар, мой отец, потому что родился еще в девятнадцатом столетии, и даже не в самом конце его. К началу нынешнего века – к тысяча девятисотому году – он мог хорошо читать и писать и даже успел окончить народное училище. Он видел живых жандармов и даже последнего российского царя: в Могилеве возле губернаторского дома, где помещалась ставка, царь, пустоглазый, с вялым, бледным лицом и в полковничьем мундире, вручал кресты георгиевским кавалерам, отличившимся на фронте.
Из рассказа о царе я не мог понять двух вещей: почему царь не присвоил себе генеральского звания – ведь он мог все – и почему у него было такое несчастное лицо.
Еще отец рассказывал мне о том, как вез на фронт маршевый эшелон с солдатами, и на станции Жмеринка отдавал рапорт знаменитому генералу Брусилову, и тот пожал ему руку, и еще о том, как лежал в окопах у реки Шары под Барановичами и германские пули свистали возле ушей, как осы, впиваясь в землю, но ни одна не укусила его…
Отец мог бесконечно рассказывать о своей жизни: о волнениях в институте в дни похорон Толстого, об охоте, о давней своей мечте съездить в Париж и Египет – власти не дали справки о благонадежности, и о многом-многом другом.
Но рассказывал отец урывками – не было времени. У него всегда была уйма дел: в педучилищах, в пединституте, на избирательных участках. Вечно он пропадал на каких-то конференциях и совещаниях, ходил по школам, готовился к лекциям.
В городе у него было много учеников и знакомых, и когда мы изредка гуляли с отцом по городу, с ним то и дело здоровались люди, иногда останавливались и разговаривали на разные педагогические темы.
Я давно пытался затащить отца на речку. Все было бесполезно. В раннем детстве, когда мы жили в Мозыре, у широкой Припяти, мы иногда по выходным дням всей семьей ездили на рыбалку, загорали и купались. Но это было давно. С каждым годом у отца прибывало дел, и не так-то часто удавалось мне посидеть с ним на лавочке у Двины.
К моему ужасу, и здесь, в городском сквере, встречались его знакомые и все время прерывали нашу беседу. Отец рассказывал о своем детстве – он тоже когда-то был маленький, бегал по орехи, ловил плотичек, пек в золе яйца и рвал на болотах Могилевщины клюкву и бруснику. И на самом интересном месте к нам обязательно кго-то подходил.
Я сердито поглядывал на его знакомых и ждал, когда они оставят его. Как будто не было у них времени переговорить обо всем на своих собраниях и конференциях!
Однажды мне несказанно повезло. Отец сам, без уговоров и просьб, вдруг сказал мне:
– Искупаемся, а?
Вначале я даже не поверил своим ушам и недоверчиво посмотрел на него. Но тут же затараторил:
– Конечно… Сейчас же!
Я боялся, что он раздумает.
Отец взял полотенце, и я захлопнул дверь. Он был раза в два выше меня, и мне очень нравилось это. Он был строг, серьезен, и это я тоже любил. Я был рад, что строгим и серьезным людям тоже иногда вдруг хочется влезть в воду и поплавать. У подъезда я встретил Леньку. Он меня ни о чем не спрашивал, но я сказал ему:
– А я иду купаться… С отцом.
– Ну и хорошо, – ответил Ленька.
И это все, что мог я услышать от него!
Мы спустились к Двине. Я еще на ходу стал раздеваться, стащил рубашку с майкой и, когда мы пришли к воде, был в одних трусах. Пока отец, присев на камень, расшнуровывал один ботинок, я уже был в воде, пока он расшнуровывал другой, я уже плыл по глубокому месту.
Вода приятно студила тело, плескалась у затылка, ласкала спину и ноги.
К тому времени, когда отец снял ботинки и носки и аккуратно сложил на песок брюки и рубаху, верхнюю и нижнюю, я успел сплавать на середину реки и вернуться к берегу. Нащупав ногами каменистое дно, я проплыл еще немного, стал по грудь в воде и принялся поджидать отца.