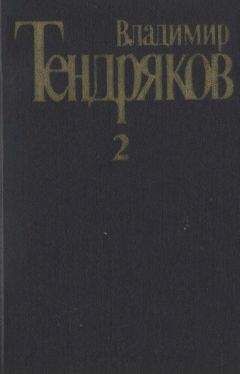А сосна висела над Сашей, молчаливая, бесстрастная, много пережившая на своем веку. Ее не удивишь маленьким горем.
Утром следующего дня Игнат Егорович сообщил, что заочное отделение института объявило о приеме, пора собираться в дорогу.
15
Баев считал, что о папке Мансурова, как и о всяком событии, он обязан сообщить в обком партии. Кроме того, об этой папке уже ходят из колхоза в колхоз слухи. Не без того, в них что-то и преувеличивается, раздувается, искажается. На собраниях, возможно, станут требовать ответа от Баева: почему да как? В таких случаях ответ должен быть один — папка отправлена в обком.
Баев вызвал к себе инструктора Сурепкина.
Если в весеннюю распутицу в самом удаленном от села Коршунова Верхне-Шорском сельсовете надо было проверить готовность колхозов к севу или выступить там на партсобрании, посылали самого безответного — Серафима Мироновича Сурепкина. Этот не станет отговариваться болезнями или семейными причинами, не остановят его ни непролазная грязь, ни большие расстояния. Облазает колхозные конюшни, ощупает семенной материал, оглядит инвентарь, пожурит председателей, пристращает: доложу! И, возвратившись (опять же с оказией, где на случайных машинах, где на подводе, а где и пешком), обязательно все в точности сообщит: то-то подготовлено, того-то не хватает, распоряжения переданы.
Если его спросят:
— Вот в областной газете писалось об инициативе колхозников Пальчихинского района… Вы это разъяснили колхозникам?
Он ответит:
— Не было наказано. А то долго ли…
Серафим Миронович делает только то, что ему наказано, но не больше. Однако, если рассерженному начальству вздумается тут же, с ходу, повернуть его: «Идите, сделайте! Наперед будете догадливее», Серафим Миронович, не обронив ни слова, сразу же направится обратно пешком, на оказиях, в грязь и обязательно исправит оплошность.
Бывший батрак, в партию он вступил, когда Баев, ныне секретарь райкома, был мальчишкой. За все эти годы Сурепкин не получил ни одного партийного взыскания, но и особых заслуг за ним не числилось. Так как ничего другого не имел, Серафим Миронович находил должным гордиться и этим. «Я перед партией чист как стеклышко», — частенько говаривал он со скромным достоинством.
С годами у Сурепкина появилась лишь одна слабость, да и та безобидная, — очень любил выступать на собраниях.
В привычном для всех порыжевшем пиджачке, надетом поверх армейской гимнастерки, длинные, по-крестьянски широкие руки вылезают из рукавов, лицо, как и пиджак, тоже порыжевшее, вылинявшее на солнце — под кустиками бровей какого-то мыльного цвета покойные глазки, крепкий, как проволока, ежик волос над морщинистым лбом… В редкие минуты, когда Серафиму Мироновичу приходилось задумываться, ежик начинал «гулять» взад-вперед.
Сурепкин предстал перед Баевым.
— Вы звали меня, Николай Георгиевич?
— Поедешь в обком, отвезешь это дело, — Баев выдул из стола папку, — дождешься ответа, узнаешь мнение областного комитета. Поручение важное, поэтому и посылаем, иначе просто переслали бы по почте.
— Когда ехать?
— Собирайся сейчас.
— Поезд завтра в шесть утра отходит.
— Вот с этим поездом.
— Хорошо.
— Ты знаешь, что в этой папке?
— А как же, слышал.
— Будут беседовать с тобой, можешь передать мнение членов бюро. Впрочем, решение бюро здесь прилагается. Я лично считаю, что такие нападки переходят грань необходимой критики, вносят дезорганизацию в работу. Словом, вот!..
Сурепкин бережно принял папку.
Общежитие института было переполнено заочниками. Игнат сумел отвоевать только одну койку для Саши, самому пришлось устроиться в гостинице.
Проснувшись утром, натягивая сапоги, Игнат вдруг заметил через койку рыжеватый жесткий ежик волос, оторвавшийся от подушки.
— Эге! Серафим Мироныч! Какими путями?
— Здравствуй, Игнат Егорович, — обрадованно отозвался Сурепкин. — От райкома командирован.
Через полчаса они вместе вышли из гостиницы. Игнат в просторном пиджаке, в галифе, мягких хромовых сапогах, все выглаженное, свежее, начищенное до блеска, как и подобает у колхозного председателя, не часто попадающего в областной город. Серафим Миронович в черном праздничном костюме, режущем под мышками, с узенькими короткими брючками, под локтем — затертый разбухший портфель.
— Так, значит, ты идешь передавать нашумевшие бумаги в обком? — спросил Игнат, косясь на портфель.
— Самому первому в руки.
— Баев надеется, что за него похоронит собранные Мансуровым материалы обком?
— Ничего не знаю. Мое дело передать, выслушать замечания.
— А ежели спросят и твое мнение?..
Вышагивая по нагретому асфальтовому тротуару медлительной, журавлиной походочкой, Серафим Миронович помолчал с минутку, затем ответил с достоинством:
— Мое личное мнение такое: нападки на планы, какие делает Павел Сергеевич, переходят грань критики, вносят дезорганизацию… — Замолчав, он скромно вздохнул.
— Оно верно, мнение свежее. По пословице: «Чье кушаю, того и слушаю».
Но природное добродушие Сурепкина трудно было прошибить чем-либо — он не заметил ухмылки Игната.
Недалеко от здания обкома Игнат остановился у парикмахерской, попросил Сурепкина подождать и вышел с гладкой, отливающей синевой головой, посуровевший, подобранный, словно оставил за стеклянными дверями парикмахерской прежнее добродушие.
Таким он и вошел в обком. Нагнув лоснящийся крупный череп, распространяя вокруг себя запах дешевого одеколона, тяжелый, громоздкий, — казалось, случись нужда, прошибет любую дверь, — решительным шагом поднялся по широкой лестнице прохладного вестибюля. Сурепкин отмеривал за ним ступеньки журавлиной поступью…
……………………………………………………………………
Есть гордые слова, — мужественные и сильные сами по себе, они, брошенные вовремя, вызывают отвагу и дерзость. Эти слова — семена, из них вырастают человеческие подвиги.
Но есть и другие слова. В них не чувствуется ни красоты, ни гордости, ни силы. Они незаметны, серы, будничны. Их не бросают с трибун, они произносятся без пафоса. Тот, кто употребляет их, обращается с этими словами без особого почтения, бросает их на ходу виноватым ли, сухим ли, брюзжащим, вежливым или же вовсе бесцветным голосом. И тем не менее такие слова по-своему могущественны. Страстные желания, кипучую напористость, волевое упрямство, молодой азарт — все способно потушить подобное слово.
Не последнее из числа этих слов — безобидный на первый взгляд глагол «ждать», он действует сам, к тому же наплодил себе подобных.
В обкоме партии как Игнату Гмызину, так и Сурепкину ответили просто:
— Подождите, разберемся.
И они стали ждать.
Игнат сдавал экзамены, умудрялся выкраивать время на улаживание колхозных дел в торговых и строительных организациях, часто наведывался в обком, но там натыкался на одно:
— Подождите.
Серафим Сурепкин под действием этого слова день ото дня тускнел, у него кончились командировочные деньги, и Игнат Гмызин водил его обедать в студенческую столовую, даже для поддержания духа поил пивом.
А в Коршунове с нетерпением ждал решения Павел Мансуров…
16
Областной город К*** ничем не знаменит — асфальтовые улицы и булыжные мостовые в переулках, многоэтажные дома и потасканные домишки в четыре оконца, оперный театр, три института, музеи, кинотеатры, стадион, водная станция, троллейбусы, автобусы и солидная история — в старое время сюда ссылались видные писатели и общественные деятели…
Для самого города и для его жителей вовсе не событие, что на улицах появился долговязый паренек с густым деревенским загаром на лице, в кепке, надвинутой на возбужденные светлые глаза, в шевиотовом, с короткими рукавами пиджаке и добротных, старательно начищенных яловых сапогах. Он один из тысяч прохожих, он крохотная песчинка, принесенная со стороны.
Но город для этого паренька — величайшее событие в его короткой еще жизни.
Саша до сих пор один-единственный раз выезжал из села Коршунова. То было давно, еще до войны, когда ездили в гости к тетке, живущей под Ленинградом. Из этой поездки запомнилось только — мозаичный пол в одном из вокзалов да строгий швейцар с седыми усами и баками.
Только по книгам и кинокартинам знал Саша лежащий за лесами сахалинской поскотины великий и шумный мир. Только из книг он знал, что существуют реки больше, чем их Шора, что в городах среди домов можно заблудиться, как в лесу, что и самые дома там необычные — в каждый из них войдет все население такого села, как Коршуново, да еще пришлось бы подзанимать людей из соседних деревень. Есть на свете пустыни, есть моря, есть высокие (что там Городище!) горы. Когда узнаешь обо всем этом в тихом селе Коршунове, где знаком каждый камень на дороге, каждый куст на берегу, то мир кажется таким же невероятным, как и сказки из детских книжек. Подвиг Иванушки, пролезшего в ухо Сивки-Бурки, и море, вода без конца и краю, причем не обычная, а соленая, которую нельзя пить, разве не одинаковое по невероятности чудо?..