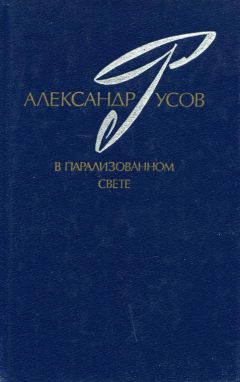Мокрая одежда стояла колом, пощипывала, покусывала спину, ляжки, колени, будто назойливая мошкара, и подсыхала на снова уже горячем солнце, и от вас с Дядей Аскетом, словно из старой прачечной, валил пар, малозаметный, впрочем, в прозрачном, легком свете вновь наступившего летнего дня.
…Вы снова вышли к воде, на этот раз большой и вольной — к Москве-реке, я имею в виду, и дальше направились вдоль берега, сплошь заросшего голубой осокой. Тусклая в рассеянных лучах света река круто поворачивала вправо, как если бы глиссер с задранным носом делал опасный вираж, и при виде этой широкоформатной картины перехватывало дыхание, щекотало низ живота, точно слишком сильно наклонившийся глиссер прямо на виду вот-вот должен был опрокинуться. Постепенно небо затягивало грязноватой кисеей. Высокие сплошные облака, словно вощеной бумагой для компрессов, со всех сторон обложили солнце. Одинокая белая лошадь, пасущаяся в низине, все пыталась поднять голову, но каждый раз бессильно роняла ее в густую траву. Где-то, уже совсем едва различимые, виднелись строения, похожие на кусочки отколупнутой сосновой коры. И все остальное — растянувшееся по лугу стадо коров, крошечная фигура пастуха с перекинутым через плечо кнутом толщиной в волос — было так мелко, призрачно, вызывало такое щемящее чувство, будто это была не Москва-река, которую еще вчера вы переходили вброд и теперь, наверно, опять должны были преодолеть, а печально знаменитый Стикс, и путь по нему был только в одну сторону.
Чем мельче казалось все вокруг, тем большими становились вы с Дядей Аскетом. И вот вы стали уже просто гигантами среди этих просторов, которые, пожалуй, ничего не стоило, наподобие искусственного покрытия, скатать в трубочку и сунуть под мышку, как какой-нибудь курсовой проект. Тебе стало вдруг страшно ступать по земле, ибо свежая, чистая трава вокруг была ведь ненастоящая, и ты мог испачкать своими грязными ботинками этот уникальный проект будущей жизни, растоптать замечательный макет, выполненный с такой любовью и тщанием. Пока ты стоял в нерешительности, Дядя Аскет уходил все дальше, сам постепенно становясь все более маленьким. Подергивались туда-сюда, точно колесики часового механизма, его белые брючины: тик-так, тик-так…
Вы шли и шли. Излучина все разворачивалась вправо, глиссер кренился, постоянно рискуя перевернуться, а белая лошадь оказалась совсем близко и наконец подняла голову, взглянув на вас своими доверчивыми, темно-карими, как у Дяди Аскета, глазами.
Вдруг что-то опять сверкнуло в вышине, между землей и небом. Нет, это была не молния. Сверкание длилось, переходя в теплое золотое свечение. Будто листок фольги, поднятый восходящим потоком воздуха, трепетал на ветру, как праздничный флаг, и теперь вы шли прямо на него, на этот разгорающийся свет — туда, где потоки солнечных лучей прорывали пелену облаков и теперь играли, отражаясь в главном куполе звенигородского храма.
Вы пришли в Звенигород, приятель, в конечный пункт вашего похода — вашего великого перехода из Тучкова, хочу я сказать. Вы пришли на автобусную остановку и стали ждать автобуса до железнодорожной станции. Свершилось то, что было намечено: вы достигли желанной цели, и теперь силы окончательно оставили тебя. Ты едва держался на ногах, с трудом влез в пыльный, раскаленный автобус и тотчас рухнул на заднее сиденье, а когда автобус прибыл на конечную остановку, то никак не мог подняться. Режущая боль в икрах валила с ног, однако Дядя Аскет тебя успокоил, объяснив, что от чрезмерного физического напряжения в мышцах выделилось слишком много молочной кислоты, но у тебя это скоро пройдет.
Что и говорить, напряженное было лето. Сначала экзамены в школе, потом вступительные — в институт. Я сидел не разгибая спины.
И все-таки умудрялся ездить с Индирой за город.
Да, мы ездили несколько раз на станцию В.
Почему именно туда?
Я хорошо знал те места. В течение нескольких лет мы снимали там дачу.
Рассказывай дальше.
Сойдя по ступенькам с железнодорожной платформы, мы доходили обычно до указателя «ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПУТЯ ЗДЕСЬ», укрепленного на почерневшем от времени и паровозной гари деревянном столбе, а потом километра два еще шли по открытому шоссе. Сразу за керосиновой лавкой неподалеку от станции начинались поля, пустыри — частично вспаханное, частично заросшее травой и дикими цветами пространство с вкраплением небольшого болотца. Когда я ездил здесь на велосипеде, это был самый ровный участок шоссе, а если нес десятилитровый бидон с керосином, то именно здесь делал первую остановку. Дышалось легко, и все внутри распрямлялось. Словно не одиннадцать месяцев, а всю жизнь провел я в больнице из-за ожога ноги третьей степени и теперь возвращался домой.
Ты испытывал освобождение, когда ставил алюминиевый бидон с плещущимся в нем желтоватым керосином на асфальт, чтобы переменить руку?
Сам вид ничего не стесненного пространства, очевидно, так действовал на меня.
Извини, но ты вез Индиру в пункт В во имя цели, никак не совместимой с званием телелюя и благовоспитанного мальчика.
Может, для того только, чтобы обрести возможность выпрямиться в полный рост, ощутить себя и в самом деле выжившим, выкарабкавшимся, то есть по-настоящему живым.
Именно так ты думал тогда?
Нет, я думал только о том, что люблю ее.
Вы прошли еще шагов триста, и шоссе покатилось вниз.
Да, спуск был довольно крутым.
Раскрути же педали, велосипедист, чтобы ветер засвистел в ушах, потому что потом, на самой горке, крути не крути: педали не поспеют за ходом колес, станут дряблыми, потеряют сопротивление, будто погруженные в жидкое масло…
Я всегда так и делал.
Вы спустились, стало быть, вниз, идя по обочине шоссе, следуя по свободной от угрозы наезда транспортных средств полосе движения.
Это была довольно широкая, удобная для ходьбы глинистая обочина, которая во время дождей имела свойство превращаться в скользкое, вязкое и липкое месиво.
Сразу за спуском начинались дачи. Вываливающиеся из-за заборов кроны деревьев уже бросали тень на асфальт. Пронзительно запахло скошенной травой. Тут Индира зачем-то достала из сумочки и надела столь ненавистные тебе черные очки.
— Сними очки, Индира, — попросил я.
— У меня болят глаза, — ответила Индира.
Или, возможно, иначе:
— Тополь цветет, я не могу без очков.
Откуда бы в населенном пункте В взяться цветущим тополям в июле?
Если она так сказала, значит, уже красила тушью ресницы. Ведь тополиный пух пристает к намазанным ресницам, как мухи к липучке. И тут же появляются слезы…
Тополиный пух за городом? Ты не путаешь?
Мы спустились с горки и теперь подошли к тому месту, где два года назад грузовик сбил десятилетнего мальчика — в то лето, когда Индирины родители снимали дачу на станции «Ермолаевка»… Помню, вот так же шли с кем-то из взрослых, дурачились — четыре разновозрастных мальчика, срывали колючки репейника, пулялись друг в друга. Я набрал полную горсть репья, начал бросать, а тот мальчик отскочил… Не помню даже, как его звали. Белобрысый такой соседский мальчик. Худенький. Ну, в общем, обычный. Шел, весело подпрыгивая… Я замахнулся, а из-за поворота выскочил грузовик. Я даже вскрикнуть не успел, остальные же просто не заметили. Правда, взрослый как-то диковато оглянулся, когда грузовик прогромыхал мимо. Стало опять тихо, мы продолжали свой путь, и только мальчик остался лежать посреди шоссе, уткнувшись головой в руки, будто вдруг уснул на ходу. Взрослый сразу бросился за грузовиком, замахал руками… Я сначала не понял, заикнулся было о враче. Потом заметил лежащие отдельно на асфальте мозги… Потом мы сошли на тропинку…
Что?
С обочины сузившегося на повороте шоссе мы сошли с Индирой на тропинку, обсаженную деревьями с одной стороны, однако я не уверен, что деревья эти были посажены, а не выросли сами собой.
Ничего не понимаю.
Ты вспомни…
Тут действительно все каким-то удивительным образом переплетается — эта тропинка-полуаллея, Индира в черных очках, тот белобрысый мальчик и твой Отец, который однажды приезжал к тебе на дачу вечером, после работы. Вы гуляли с ним до темноты и никогда не были столь близки, взаимно доверительны, как в тот раз. Впрочем, подобных встреч, когда вы оставались наедине и оба не испытывали чувства неловкости, можно пересчитать по пальцам. Собственно, ты хотел лишь показать ему самое красивое здесь место — спуск к реке, густо заросший высокой травой, ромашками, ка́шкой, лесной гвоздикой, колокольчиками, иван-чаем, ниже — лютиками, — склон, на котором все благоухало и волновалось на ветру, звенело мошками, мушками и гудело шмелями, а ближе к ночи погружалось в сонное безмолвие, заволакивалось белесым туманом, плывущим над рекой. Но вы не дошли даже до березовой рощи, где у самой опушки всегда можно было набрать маслят. Вы не пошли дальше небольшого огороженного поля, потому что комары донимали, их носились здесь несметные полчища. Постояв поэтому в нерешительности, вы вернулись все-таки на тропинку, параллельную шоссе, и принялись ходить по ней взад-вперед: сто метров туда, сто обратно. Отец что-то рассказывал тебе, ты тоже о чем-то рассказывал ему, а когда споткнулся о выпирающий из земли корень старой ели, он заботливо тебя поддержал. Касание крепкой отцовской руки было волнующим. Уже очень взрослый мальчик, ты чувствовал себя рядом с ним по-прежнему маленьким и почему-то постоянно оправдывался, но в чем состояла твоя вина, толком не знал. Гортань теснило невысказанное, тело сжималось как перед прыжком. Ты боялся показать, что ожидал гораздо большего от встречи с ним. Возможно, это проистекало от слишком уж страстного желания видеть Отца значительным и необыкновенным. Приходилось предельно напрягать слух и нервы, чтобы воспринять нечто едва уловимое, что, возможно, таилось в его словах, жестах, в сдержанной интонации, однако ускользало куда-то, тебя почти не затрагивая. Это противоречие между желаемым и реальным заставляло тебя, в свою очередь, говорить, двигаться и вести себя неестественно, а Отец, конечно, все это замечал…