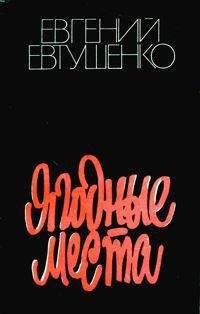— Пущай тогда все остальны сдадут, — ввернула старуха Залогина.
— А у кого ишо есть самогонны аппараты? — поднял карандаш Тиша.
— Залогины ишо в доносчиках не ходили, — так и швыранул на старуху взглядом Севастьян Прокофьич. — Ты уж сам, сынок, по чужим сараям лазай, а мы тебе не подсказчики.
— А сколь у вас скота? — спросил Тиша.
— Три лошаденки да три коровенки, слава богу.
— А свиней и овец?
— По десятку будет. Ишо одна коза, ежели это скот.
— А курей и гусей?
— А кто их сосчитат! Семья у нас больша, еле в избе умещаемся. Похлебку иной раз затеем, чобы с наваром была, глядь, уже одним петькой-крикуном вместях с подружкой и помене. К тому же улица у нас в деревне одна на всех, и куры да гуси перепутались — иной раз режешь гусака и не знашь, твой он или соседский… — прищурился Севастьян Прокофьич.
— Зажиточно вы живете, — почесал карандашиком за ухом Тиша.
— А это рази плохо, ежели крестьянин зажиточно живет? — суховато ответил Севастьян Прокофьич. — Я тоже не всю жизнь так жил — и карбаса по Лене водил, и батрачил. Но на меня ишо не батрачил никто! Все, чо имею, своими руками добыто. Вот они, руки-то: пельмень с паром беру, не обжигаются — так от работы огрубли.
— А в гражданку на чьей стороне были? — с надеждой спросил Тиша.
— Ни на чьей, по старости. Мне уже тогда, сынок, шестьдесят было…
— Как это ни на чьей? — снова встряла в разговор старуха. — А помнишь, как ранетых красных укрывал?…
— Так это потому, что ранетые — они есть ранетые, а не потому, чо красные, — сердито ушел в себя Севастьян Прокофьич.
Когда уходил Тиша, Даша побежала за ним во двор — придержать собаку, спущенную с цепи, неожиданно шепнула в ухо:
— Ты на Косой угор приходи завтра в полдень… Черемуху я собирать буду…
Хороши были черемушники на Косом угоре! Кусты так и гнулись от черных ягод, пересыпанных ночным дождем. Обдерешь гроздь покрупнее, кинешь сразу горсть ягод в рот, отделяя языком мякоть от косточек, и все нёбо покрывается вяжущей сладкой пленкой. Тиша сгибал кусты, чтобы Даше было сподручнее обирать ягоду, и Даша визжала по-девчоночьи, когда вчерашний дождик сыпался на нее с ветвей, забирался под вырез сарафана и щекочуще полз по спине. Быстро наполнились две корзины.
— Листьев много! — вздохнула Даша. — Перебирать, однако, придется.
И вдруг сама шагнула к Тише, положила на его плечи руки, прижалась к нему, и ее малахитовые глаза приблизились к его глазам настолько, что он различил в них, как в настоящем малахите, тоненькие прожилки…
Потом они лежали рядом между двумя корзинами, полными ягод. От неловкого движения Тиши одна из корзин завалилась набок, ягоды посыпались прямо на открытую Дашину грудь, и Тиша сцеловывал с нее ягоды.
Не раз еще они встречались с Дашей то в черемушнике, то в боярышнике, а расходились поодиночке — от людей свою любовь прятали.
— А ты ничо плохого семье нашей не сделашь? — спросила однажды Даша. — Каки мы кулаки, Тиша!
И тогда закралась в Тишу нехорошая мысль: что, если Севастьян Прокофьич подсылает к нему свою дочь, чтобы умерить его бдительность? Все же самогонщик, и хотя аппарат самолично разбил и штраф уплатил, нет ли у него второго аппарата? И хотя батраков не держит, богатенек Залогин, если с другими сравнить. Мысль о Дашиной неискренности Тиша отгонял, а все-таки она иногда у него опять возникала: удобная это была мысль.
Тишу вызвал в райцентр и нещадно прорабатывал за послабление кулацким элементам начальник с воспаленными глазами, стуча вороненой ручкой нагана по конфискованному где-то столу красного дерева. Поверхность стола была вся во вмятинах и царапинах — наверно, от частого стучания этим наганом.
— Мы с тебя лишнего не спрашивам, а столь, сколь положено. В Сычевке ты кулаков нашел? Нашел. В Крутогорье нашел? Нашел. А в Тетеревке не можешь? Это чо же получатся? Выходит, Тетеревка есть такой рай, где уже бесклассово общество? Разуй глаза… Ты уже добрый месяц там торчишь и, видать, разложился от местной обстановки.
Начальник закашлялся от беспрерывных папирос, рванул к себе графин, хотел налить воду и на мгновение замер: графин был пуст и в нем металась муха, с жужжанием ударявшаяся о стеклянные стенки. Начальник еще больше разгневался на Тишу, оказавшегося свидетелем его бессилия хотя бы в этом ничтожном случае, и угрюмо спросил:
— А ты сам не из кулацкой породы? Смотри, проверим.
Слова по тем временам были грозные, и Тиша, вернувшись в Тетеревку после такой промывки мозгов, стал держать совет с двумя тамошними активистами. Первым из них был Ерюгин — бывший красный партизан, один из самых бедных в деревне по причине одной ноги и общей одинокости. Бедность его, однако, никогда не превращалась в зависть, свойственную тем, кто был беден от неспособности, а не от несчастности. Вторым был Спирин, в нутре которого как раз и сидела эта постоянно свербящая его зависть к тем, кто побогаче. Спирин был тоже инвалид гражданской войны — у него не сгибались пальцы простреленной левой руки. По слухам, Спирин был самострел. На красной стороне Спирин провоевал недолго до ранения, но, когда советская власть победила, сразу полез грудью вперед так, как будто Колчак был разгромлен именно благодаря ему, Спирину. Обвешанный со всех сторон ребятишками мал мала меньше и награжденный вечно брюхатой, неряшистой женой, Спирин сильно озлел, считая, что ему недодано жизнью.
Тиша положил на стол список населения Тетеревки и грустно, по решительно сказал:
— Ну, давайте искать кулаков.
Ерюгин заерзал деревяшкой по полу.
— Ты мне сперва скажи, чо тако — кулак?
— Ты чо, сам не знашь, а ишо красный партизан, — попробовал отбрыкнуться Тиша.
— Я-то знаю, да от тебя услыхать хочу.
— Кулак — это тот, значит, кто иксплутирует чужой труд, — неохотно сказал Тиша, в ушах которого все еще звучало: «А ты сам не из кулацкой породы? Смотри, проверим…»
— Так иде у нас в Тетеревке иксплутаторы? — покачал головой Ерюгин. — Сроду здеся никто батраков не держал. Како тако богачество, сыты, да и только…
В разговор немедля влез Спирин. Ерюгин своей деревяшкой раздражал: это было ранение безобманное, доказательное, а Спирин знал заспинные слушки о собственном самострельстве.
— Ты мне ответь, товарищ Ерюгин, у тебя лошадь есть?
— Нету.
— А корова?
— Нету.
— Так чо же ты теряшь классово чутье к тем, у кого по две, а то и по три лошади да коровы? Рази это не иксплутация животных, товарищ Ерюгин? — весь встопорщился Спирин.
— У тебя и лошадь и корова, так ты чо, тоже иксплутатор? — спросил Ерюгин.
— У меня одна лошадь! — негодующе загнул палец Спирин, — и корова одна! — он загнул второй палец, а потом разогнул оба. — Это при девяти ртах не иксплутация, а трудова необходимость. А когда три лошади, как у Залогиных… — Спирин уже торжествующе загнул три пальца, — и три коровы! — Спирин аж задохнулся то ли от злости на Залогиных, то ли оттого, что пальцы на левой руке не сгибаются, мешая ему считать, — это сама чо ни есть иксплутация!
Произнесенная Спириным фамилия Залогиных, которые у того как кость в горле сидели, удручила Тишу. Что-то неотвратимо надвигалось, оттесняя от него Дашу. «Знат Спирин или не знат?» — настороженно подумал Тиша.
— Так это же иксплутация животных, а не людей, товарищ Спирин, — примирительно сказал Тиша. — За это ишо никого вроде не раскулачивали…
— У меня две дворняги, две, а не одна, слышь, Спирин! — тяжело усмехнулся Ерюгин. — Ежели б одна была, это, значит, необходимость, а две — уже иксплутация? Раскулачивать будешь за лишнюю дворнягу?
Но спиринские глаза смотрели уже в сторону Тиши, сверля его как буравчики.
«Знат», — подумал Тиша.
— Залогины и людей иксплутируют, — стоял на своем Спирин.
— Это кого же? Все сами работают. Никого в найме нету, — пожал плечами Ерюгин.
— А друг друга они иксплутируют! Вот как! Иначе откуда у них трем лошадям да трем коровам взяться! — торжествующе крикнул Спирин.
«Не дают тебе покоя три лошади да три коровы», — подумал Тиша, но промолчал.
— Ты свою жену тоже иксплутируешь, когда она тебе латки на штаны ставит, — сказал Ерюгин.
— А самогонными делами рази Залогины не занимаются? — не унимался Спирин.
— Тогда у нас вся деревня — кулаки… — возразил Ерюгин.
Спирин понизил голос и вкрадчиво добавил:
— Окромя прочего, Залогины в долг дают, а потом трудом берут…
— Это как? — спросил Тиша, напрягаясь. Дело уже пахло мироедством.
— А так… Года три назад, в голодну зиму, одолжил мне старик Залогин мешок зерна, а потом летось встречат и смотрит. Особенно смотрит. «Чо, говорю, смотришь? Должок напоминать?» — «Да ты не беспокойсь, — отвечат. — Покосите у меня с женой, и весь расчет».