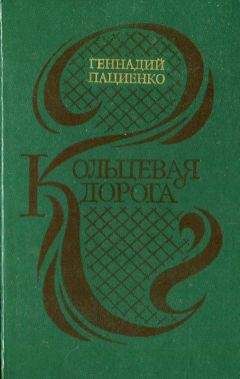Прежде он знал одну тропу, на которой всегда с кем-либо встречался. Теперь же никто не шел навстречу, что невольно усиливало тревогу и беспокойство. Он выбрал в зарослях ту тропу, которая на его памяти считалась единственной, основной тропой от деревни к станции. Но и здесь никто не встретился ему, и на ней никого не увидел он до самого дома…
Первой, кого с дороги возле дома заметил он, была мать. Она увидела его, как только свернул к калитке, и, оставив на грядке корзину с выбранным луком, вытирая второпях руки, поспешила навстречу.
— Дал бы телеграмму загодя! — первое, что сказала она.
— А зачем, мама?
— Отец подъехал, встретил бы.
— Я же не начальник какой. Куда приятней пройтись.
Он поцеловал мать в щеку, всегда пахнущую для него свежеиспеченным пряником, которые по обыкновению делала мать в весеннее пасхальное утро.
— Никого за всю дорогу не встретил, как вымерли все!
— На картошке люди сейчас. Спешат убрать. И свои, и приезжие. И отец твой там. Погода-то какая, — поясняла мать, обводя рукой солнечную синеву осеннего горизонта, прогоняя одновременно его напрасные тревоги и беспокойство за родных.
Пошли в дом.
Вытянулся, заметно посуровел в глазах матери старший сын, изменился с того времени, когда нечаянно увидела его на вокзале с незнакомой худенькой девушкой. С той поры мать не выбиралась в город. И хотя улыбалась и радовалась приезду сына, но тревога не оставляла ее: что-то ждет его после диплома, какая-то печаль и смута скрытой тенью прорывается на загорелом сыновьем лице?
Она суетилась возле керосинки, накрывала на стол и все время любовалась и тревожилась про себя непривычной сыновней серьезностью. Он хотел чем-то помочь матери и начал было искать ведра, но они стояли на лавке полными. И он сел за стол у окна в сад, слушал мать и сам рассказывал.
— И куда же, сынок, пошлют теперь? В какую даль повезут?
— День езды от вас. Элеватор надо достраивать в соседней области.
— Ну, коли в соседней, то ничего. С Антоном или один?
— Антон позже поедет. Его пока не распределяли.
— А что же, в своем городе нельзя было остаться?
— Не знаю, мама. Я хотел уехать…
Мать вздохнула: что-то не так у сына. Сердце чувствует.
В окно он видел тяжело свисавшую в огороде налитую антоновку. С яблоневой ветки под крышу дома неожиданно метнулся голубь. Ветка качнулась, и крупное яблоко гулко упало на землю.
Игорь улыбнулся: голубь напомнил ему прошлый приезд. Он обошел тогда дом, огород, потрогал шершавый ствол посаженного им дубка. После города родительский дом будто сжался, уменьшился.
Под окнами стояли птичья возня и гвалт.
Жестоким и диким показалось ему увиденное.
Над жердочкой, под стрехой, у самого фронтона высовывались из гнезда два раскрытых клюва. Птенцы орали, просили еды. Сердце сжималось, глядя на них, а помочь им Игорь ничем не мог.
Взрослые голуби в конце концов вытолкнули подлетков из гнезда. Один из них в мгновение оказался на крыше, второй же стал падать вниз на росшую под окнами яблоню. Сев, отряхнулся, успокоился и начал оглядываться: первый раз в жизни он видел землю.
Игорь наблюдал снизу за птицами и не понимал жестокости, которую вершили голуби-родители: щипать, бить крылами, а потом грубо выталкивать птенцов из теплых, уютных и мягких гнезд, для которых Игорь собственноручно приколотил когда-то две небольшие дощечки, чтобы на них поселились голуби.
— Думаешь, за что они бьют их? — услышал он рядом голос незаметно подошедшей матери. Конечно, она угадала, ради чего стоял здесь.
— Я, пожалуй, прогоню их, видно, это не ваши голуби.
— Наши, сынок, наши. Это они сталкивают птенцов, чтобы в гнезде не засиживались. На свои хлеба скорее летели бы.
Так разъяснила мать простой, впервые увиденный им закон и обычай голубиной жизни: учить молодняк раннему для них хлебу и лету.
Подлетка, который было уселся на крыше, вскоре также согнали на ветки яблони. Скоро оба опустились на траву и стали суетливо искать первый свой корм. Взрослые голуби сидели на краю крыши и, как люди, сотворившие непосильное дело, удовлетворенно поправляли оперение, зорко наблюдая за возившейся в траве малышней…
— Сынок, а что же ты до сих пор в форме? — поинтересовалась мать, прерывая ход его мыслей и садясь рядом.
— Вот вернусь и костюм куплю.
— Мы с отцом тебе денег припасли. Бычка сдали.
— У меня, мама, и своих хватит — на практике заработал. Завтра выдавать будут.
— Сейчас тебе много понадобится, на новом-то месте.
— Обойдусь и своими. Теперь мой черед помогать вам.
— Ты о себе вначале думай. У нас все есть. А ты с голого места начинаешь. Что же Антон с тобой не приехал?
— Он в городе пока остался, — ответил, удивляясь, что мать второй раз спросила о нем.
— И куда же поедет?
— Я говорил тебе: у него позже назначение…
— А я и запамятовала, — улыбнулась мать и спросила: — Про Светку Сапожникову слышал?
Игорь насторожился:
— Нн-н-ет…
— Я думала, Антон рассказывал.
— Ничего он не говорил. Они ж не встречаются.
Мать, словно бы не расслышав, что говорил Игорь, продолжала:
— Рассталась она со своим модником. Не склеилось у них. Баламутистый какой-то. Светка продавцом работала и растратилась из-за него. Говорят, Антон в городе нашел ей работу, вроде как на трикотажной фабрике. Она собирается. Я думала, вы вместе подыскивали.
— Да что-то было… — сказал он, как бы припоминая, а главное, защищая друга.
Он вспомнил о встрече со Светкой возле станции. Она не могла не узнать их с Антоном, ссыпавших песок и гравий, не могла не видеть пэтэушников. Из всего-то класса только они двое и были в строительном. Не подошла, постеснялась Светка, с глазу на глаз хотела быть со своей неудачей. Заговори она, и пришлось бы признаться, что решила перебираться в город. Возможно, Антон и знал об этом, но ничего не сказал, не открылся никому прежде времени, может, и виделся он в тот раз со Светкой. Несколько раз он уходил к вокзалу, говорил, что ходил пить воду. Молчуном как был, так и остался.
Удивительно смешным и странным выглядело сейчас его смущение перед тем, что девчонки могут высмеять его. Они и сами со своими невзгодами и неудачами не меньше его стеснялись…
Чем больше размышлял Игорь Божков о своем друге, тем сильнее хотелось, чтобы рядом был кто-то близкий, надежный, кто провожал бы перед отъездом, с кем хотелось разделить чуть грустноватое, накопившееся за время учебы и практики настроение.
— Сынок, а где же та девушка, с которой мы ситро на вокзале пили?
— Мила?
— Забыла уж, как и зовут.
— В институт поступила.
— Смотри-и-и-ка! И кем же будет?
— Врачом, мама.
— Интересная девушка, — ответила она, помолчав. — Она чья же?
— Нашего директора дочь.
— Видишься ли с ней?
— Иногда… — соврал он.
— Привет передавай, если помнит.
— Обязательно. — Он поблагодарил мать и встал из-за стола.
Сама не ведая, мать невольно натолкнула его на мысль снова попытаться встретить Милу. Попытаться в последний раз. Сказав, что идет в дом к Антону, он поспешил к колхозному клубу, откуда и позвонил на почту, пока клуб пустовал и никто не мог слышать. Он продиктовал телеграмму Миле: «Уезжаю двадцатого по распределению. Игорь». Деньги за телеграмму он пообещал передать с почтальоном, как это часто делали в их деревне.
Назавтра в училище ему вручили телеграфный листок с ответом: «Срочно позвони. Мила».
Он мало верил, что трубку снимет она, и готов был услышать голос Раисы Михайловны. Трубку же сняла Мила. От неожиданности он несколько секунд молчал, а когда отозвался, показалось, что и не было долгого летнего расставания.
— У меня всего день до отъезда, — сожалея, сказал он. — Надо еще костюм купить. Не знаю, как и быть…
— Давай вместе костюм поищем. Я помогу, если, конечно, ты не возражаешь.
— Но у тебя же лекции?!
— Сегодня суббота, и я освободилась пораньше. Я приеду прямо сейчас. — И спросила: — Ты где?
— Возле училища.
— Иди в сквер. Жди там, где всегда.
Игорь знал это место, хорошо помнил: белую скамью под старыми липами и соседствующим тут же кленом. В последний раз он шел туда в своей пэтэушной форме. Сегодня снимет ее, как прощаются с прожитым, так и он расстанется с ней.
Издали, махая рукой, спешила Мила: в светлом плаще, темные волосы рассыпаны по плечам.
— Узнал? — спросила она.
— Конечно.
— Ну и как?
— Нормально.
— А почему не звонил?
— Разве не передавали?
— Да нет… Жаль, — проговорила она, отметив, что слова его звучат спокойно и с какой-то непонятной, почти взрослой серьезностью. — Едешь, значит…