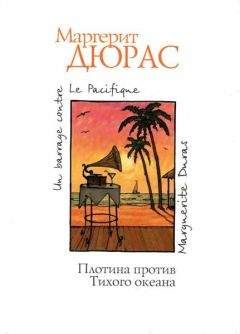— Вот Дундук! — всплескивал руками Костик. — Деревня!
Я догадывался, однако, какая нужна сила, чтобы устоять перед словами, которые все считали правильными. Я за собой такой силы не ощущал. Куда легче было справиться с собственными страхами или жалостью. Василь и говорил мало потому, что опасался ловушек, которые есть в словах. Иногда, правда, казалось, что Василь стал поступать и говорить так, как от него давно ждали. Но потом оказывалось, что это не так. Когда это выяснилось, мы возмущались. Костик ругался, а я с подозрением присматривался и прислушивался к молчанию Василя — что там вызревает опять!
Но сейчас случай был особый. Победа была на фронте. Но нас-то три года угнетало нефронтовое оружие! Три года истощающих страхов и ненависти — это было покрепче клятв. Оружием отнимали у нас судьбу. Оружием надо было ее вернуть, В этой войне у каждого из нас была своя вина и расчеты у каждого должны быть свои. Три года унижения нельзя было везти домой. А мы упускали случай за случаем, будто воля к возмездию с каждым днем слабела.
Вот из-за чего мы ругались с Василем.
Женился друг Аркадия Николай, вдвоем с женой они заняли двухэтажную койку, занавесив нижний этаж одеялом. Входя в комнату, теперь надо было кивком или глазами осведомляться, дома ли, одеяло всегда было опущено. Выбирать слова или говорить шепотом вначале казалось обременительным. Обременительной была тишина, наступавшая после того, как гасился на ночь свет. Неудобна была и какая-то непроходящая ласковость Николая. И то, что женился именно он, казалось неожиданным. От него не ждали, что он что-то сделает первым.
Следы ласковой сонной помятости на его лице не проходили и днем. Поднимались они с женой позже всех. Спали после обеда. Жена Николая вначале вообще большую часть дня проводила за занавеской. Обморочная эта сонливость, которой гордились оба, казалась ответом не только на женитьбу, но и на конец войны, на безопасность, которая лишь замаячила, а вовсе не наступила совсем.
Жену Николая звали Марусей. Нашу комнату она проходила потупившись. Кожа на ее лице была распаренной, как после бани. Первое время она часто убегала в женский барак к подругам, от которых Николай ее увел. В этой потупленности, в семенящей походке, в расцвеченной сном и сытостью коже, в шепотах и смешках за одеялом, в смелости, с которой она пришла в мужской барак, было раздражающее надеждой противоречие.
Волчья, беспокойная подвижность Николая почти исчезла совсем. От койки он пересаживался за стол. Сидел расслабленный. Я догадывался, что это за лень.
— Ты на меня ласково не смотри! — говорил ему Петрович.
Николай, усмехаясь, подпирал ладонью подбородок.
— Не думал, что так быстро привыкну, — говорил он. — Хороша девка. — И изумлялся: — Заботливая! Еще месяц проживем, расстаться будет невозможно. Я, говорит, знаю, что я тебе жена до первого семафора. Но все равно жена, а не любовница. Домой приеду, родителям скажу: «Я замужем».
Он смеялся этим льстящим ему тонким различиям.
— Я ей объясняю: «Не до семафора — до военкомата!» Договариваюсь: «Поедешь домой, а я напишу». Плачет!
— Откуда она? — спросил Петрович.
— Из Винницкой области.
Все усмехнулись. Где Винница, а где Ленинград, из которого Николай родом!
А я понимал: ленится, не смущается, ни к чему не стремится Николай потому, что чувствует себя всего достигшим.
Выражение достигнутости у него было таким полным, что поднималось удивление: а где же многолетнее беспокойство? Неужели ответ на все так прост? Лень и сонливость вызывали чувство превосходства: «Мир для нас никогда так не сузится!» Была догадка: «Вот в чем Николай первый!» Был интерес к Марусе — что в нем нашла? Было бы понятней, если бы плакала из-за Аркадия или Ванюши! Была зависть: это ее смелость вызывает у Николая ощущение достигнутости. Никому ничего и доказывать не надо. Задушенные смешки и шепоты доносятся с его койки.
И было, конечно, ошеломление от этих шепотов. От взгляда на цветущее Марусино лицо. И ревность. К любой лагерной удаче можно было присоединиться: к дружескому разговору, к куреву, к сытости. А тут человек счастлив, а ты ни при чем! И уж совсем странная ревность: такое счастье Марусе внушить мог только ты, а не кто-то другой.
В этой ревности нельзя было признаться даже самому себе. Да и не ревность это была, а мечта. Сам я с девушками знакомиться не решался. Но, если кто-то знакомил меня со своей подружкой, мечта моя тотчас перекидывалась на нее. Это была еще детская ревность, и переходила она в детскую мечту. Не к кому-то я ревновал, а к полноте чувства, по робости недоступного мне самому.
Счастливцы, переступившие порог в мир, о котором я мечтал, были у всех на глазах. Да и дверца — вот она! Сколько разговоров я слышал, что открыть ее — раз плюнуть! Однако сквозь охраняемые ворота бегал, под проволокой лазил, а в эту защищенную лишь страхом стыда дверцу не решался войти.
«Эгаль — етцт криг!» — говорили немцы. «Все равно — сейчас война!» Не очень-то представляя, что именно должна «списать» война, я тоже повторял эти лихие фразы. Уж если бараки, теснота, короткая жизнь, то и ухаживание должно быть коротким. Так говорили Костик и Блатыга, так думал я, пока однажды не пришло мне в голову, что ни у Костика, ни у Блатыги, ни у Дундука, ни у многих других моих знакомых, которые охотно говорили об этом так же, как все, вообще нет никаких ухаживаний — ни коротких, ни длинных. Вроде пустяковое открытие, но оно показало мне разницу между тем, что есть на самом деле, и тем, как об этом говорят.
Только одно любовное приключение пережил лагерь до освобождения. В мужских бараках следили за всеми его подробностями потому, что героем приключения был глуповатый, добрый, но прибивавшийся к блатным Стасик. Он постоянно надувался и таращился от шумной храбрости и вообще был из тех, кто не умеет говорить тихо. Но дело было не в одной его крикливости. Хвастовством он завоевывал себе место среди блатных. К тому же он чувствовал, что впервые его слушают так заинтересованно.
В решающий день его собирали всей компанией. Нашелся даже носовой платок в карманчик пиджака. Кто-то протянул самодельный деревянный гребень:
— Волосы не выпадают.
Стасик истово причесал свою густую шевелюру. Подношения он принимал серьезно и советы выслушивал как наставления с кем-то расквитаться, кому-то пригрозить.
Женские бараки были под жесточайшим запретом. Но не с полицаями и их запретами готовился рассчитаться Стасик. Не этим объяснялась его воинственность. Был март сорок пятого, запреты доживали последние дни. Стасика подогревала «блатная» воинственность. Глупость и добродушие, малые переживания сохранили ему ясность глаз, чистоту кожи. Непомерная шевелюра сельского модника, платок, наполовину выставленный из карманчика пиджака, сочетались с немецкими обносками. Это не вызывало смеха, хотя какое-то противоречие мы улавливали. Истощенные и оборванные, над чем мы тут могли смеяться! И «блатные» претензии Стасика никого не удивляли и не отталкивали. Даже Василь Дундук набычивался уже не по-деревенски, а «по-блатному».
К тому же на Стасике лежал ослепительный отблеск удачи. Запреты, хотя и доживали последние дни, могли больно ударить. И риск был более свободным, чем тот, который требуется, скажем, для воровства картошки. Но, главное, Стасик не один на него шел — кто-то рисковал для него. Кому-то нужны были его слегка косящие глаза, его крикливая храбрость.
Этот «кто-то» и заставлял смотреть на Стасика с новым интересом.
Мы ведь были ровесниками. Спешили друг перед другом взрослеть. Окликнешь привычно кого-нибудь, с кем месяц или два не встречался, а в ответ останавливающий взгляд. И видишь, плечи у человека другой ширины, голос другой и глаза посветлей. Не хочет он, чтобы его по-старому окликали. Чувствуешь себя обознавшимся. К новым отношениям ты не готов, на старые тебя лишают прав. Момент не очень-то приятный. Особенно если не остерегся, окликнул при других.
Может, и Стасик повзрослел. И только не заметил, как крикливость его перешла в настоящее удальство, а глупость — в ум. А Колька Блатыга и Сметана заметили. Стасику с ними хорошо — на меня он и не смотрит. Углы губ запениваются от громких слов, глаза таращатся от возбуждения. Блатыга и Сметана поддакивают значительно, и Стасик возбуждается еще больше. Если специально не прислушиваться, слышны только ругательства и угрозы. Кому грозят, сразу не поймешь. Но в том-то и дело! Грозят прошлому, настоящему, будущему. Разогревают себя, запугивают слушающих. В этот момент к ним лучше не подходи! Неузнающий взгляд, презрительная усмешка.
Взрослели мы, хвастаясь друг перед другом: не тяжело, не холодно, не страшно! Всю жизнь я искал храбрость. Понимал, нет без нее чувства собственного достоинства, а без него достойной жизни. Вот и Стасик ищет свою храбрость у блатных. Ищет свою достойную жизнь. От признания пришло к нему чувство удачи. От «блатной» истины посветлели глаза. На всех смотрит, будто припоминает прошлые обиды.