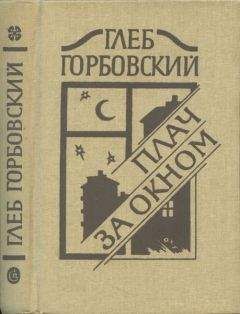— Так это ты сообщила?
— Я и в милицию дала знать. А вашей жены на работе уже не было. С каким-то дядечкой поговорила. Он еще так забавно фукал в трубку. Будто его насосом накачивали… Я чего хотела спросить у вас, Иван Кузьмич. Вы, когда лекцию читали, ну, этим, прыщавым, — то уж больно смерть расхваливали. Вы что, серьезно? Так торжественно расписывали. Или я не поняла чего?
— Да не восхвалял я ее, а пугал ею! Стращал этих фальшивых дружинников, от которых винцом разило. Давал им понять, что не только их не боюсь, но и презираю… в некотором смысле.
— А я, грешным делом, подумала: заговариваетесь или стопаря они вам поднесли для замирения. Вот вы и распелись. У жизни-то столько всего разного: и красоты, и музыки, и вкусного, книги опять же. А любовь?! А детишки… У смерти — ничего нету.
— Откуда тебе известно, что «ничего»? — И вновь Потапов, как тогда, в «буфете», ощутил в себе дух противоречия, задор ниспровергателя. — Ты что, побывала у нее в лапках?
— Всем известно…
— Никому ничего не известно. Одни догадки. Домыслы в ранге истин. А я говорю: позвольте усомниться!
— Вы серьезно?
— Еще как! Порой усомниться — заново родиться.
— Иван Кузьмич, а кто вас к аппарату вызывал? Ну, когда этот, в красной фуражке, в «буфет» заявился?
— Секретарь парткома Озоруев. Из кабинета секретаря горкома.
— Так вас… не уволили еще?
— Уволить никогда не поздно. Как и назначить.
— А эти мордовороты решили, что вас уже сняли.
— У этих «мордоворотов» свои ценности, у нас — свои. И давай забудем о них. Ты, Настя, вот о чем скажи: как ты думаешь, в наших с тобой отношениях — вернее, в нашем поведении — ничего такого предосудительного не наблюдается? Со стороны? На твой взгляд?
— А я не со стороны, я внутри «наших отношений». Смешно! Это как же понимать? В смысле «этого», что ли? Ну, как же вам не стыдно, Иван Кузьмич, миленький? Да вы еще хоть куда! Да с вами в сто раз интереснее, чем с каким-нибудь хлюпиком сумрачным.
— Эх, Настя, какая ты еще безрассудная, право. Именно об этом я и спрашиваю тебя: не подумают ли чего со стороны?
— Со стороны не подумают.
— Почему?
— Потому что вы меня в упор не видите.
— А ты знаешь, кто таких, как ты, девчонок с пути праведного сбивает? Кто им судьбу, как хребет, ломает?
— Знаю. И не хребет, не судьбу, а все проще, элементарней. Мне этот самый хребет наладчик из нашего цеха сломал. По фамилии Христофоров. И ничего! Жива-здорова. Спина, как видите, прямая осталась. Не правда ли?
— Это такой с… баками? Христофоров?
— И с баками, и с плешкой. И с шампанским в холодильнике.
— Вот-вот… Такие женатики общительные, умельцы-наладчики или персональные шоферы, как мой Вася, а также начальники всевозможные осанистые, вроде меня, с твердым еще брюшком, с опытом, положением и надоевшими женами. Это они теперь вместо попов воспитатели нравственности. Испохабить душеньку на заре туманной юности и пустить ее по миру. И я такой же! Потащился за город за розовыми штанами, кобель облезлый!
— Вот уж не надо! Чего нет, того нет. Полно наговаривать на себя. Что я, по уши оловянная, не секу — с кем дело имею? Пригляделась я к вам, еще из Сережиной комнаты, в дверную щелку. Вы другой. Вроде больного: себе не верите. А все почему: думаете много о себе. Теперь-то я поняла. Особенно после вашей лекции о смерти. Какой-то вы проколотый, извиняюсь, на одно колесо. Вот вас и кособочит.
— Учи, учи… Проколотый! Это ты хорошо…
Домой к Потапову решили идти вместе. Чтобы никаких тайн, никакой неразберихи в семье. К тому же идти Насте было действительно некуда: из общежития ее, уволенную с фабрики, попросили. А ехать в деревню, в свои разлюбезные Щелкуны, — еще не приспело. Так ей, во всяком случае, казалось. А там — видно будет.
У своего подъезда Потапов не то чтобы засомневался — идти ему домой или нет, — просто, увидев порожнюю от старушек лавочку (вечера в городе были уже прохладными), замешкался, ноги сами подогнулись, скамейка сама приблизилась к уставшему телу. На какое-то время Иван Кузьмич отключился от происходящего. Настя, потоптавшись возле сомлевшего директора и не получив от него указаний, решила доживать день самостоятельно: на лавочку возле дядечки, во избежание пересудов, не присела, двинула прямиком в квартиру Потапова, чтобы предупредить Марию Петровну или Сергея, что с Иваном Кузьмичом как бы не все в порядке и что находится он не в медвытрезвителе, а здесь, у себя под окнами, на лавочке.
А Потапов тем временем добивался от себя ответа: что же все-таки происходит с ним? Заболел, устал? Или все — от Марии? Нехватка сочувствия (о любви Потапов даже подумать не смел!)?
«Неужели старость подвалила? В сорок-то пять годочков? А ты как думал? Ну, не сама старушка, так ее разновидность, скажем: зрелость ума. Хрен редьки не слаще. Как это Настя о нем: „проколотый“! В точку попала. Как сказал бы шоферюга Василий: „Искра в землю ушла“. Ушла энергия… вот он и завибрировал, зачесался: на работу не вышел, за город с девчонкой рванул, по рылу схлопотал, оружие секретное придумал, и что же… полегчало? Ни-ни. Напрасные хлопоты. Старая шляпа, вот ты кто, Потапов. Одинокая, старая, побитая молью шляпенция. Потерявшая не столько товарный вид, сколько цену. Значение потерявшая. И прежде всего — в собственных глазах. И жить тебе, Потапов, остается считанные секунды. Не в смысле физиологическом, а в каком-то другом, более невосполнимом смысле. И вряд ли тебе книги теперь помогут или там Озоруев со всей своей искренностью, моторностью и партийным долгом: уж коли розовые штаны не помогли, то ни одна религия не спасет, даже самая милостивая и бескорыстная. Знать бы, куда бежать от одиночества… Если не к людям, то куда?»
Из парадного от лестницы притихшего дома послышались торопливые шаги нескольких пар ног. Потапов хотел воспротивиться бесцеремонному вторжению близких, вторжению в его беспомощные и вместе с тем сладостные размышления, и тут же возрадовался мысленно, что вот не оставляют, бегут на выручку, — значит, нужен еще кому-то. По крайней мере — жене с сыном необходим.
Мария приблизилась к Потапову вплотную, долго молчала, поеживаясь, разглядывая сумерки, затем присела на лавочку возле мужа. Настя и Сергей дышали где-то рядом, на каменном крыльце, покуда не сообразили, что взрослым сейчас не до них.
— Потапов, тебя уже разыскивают. Как преступника. Скажи, у тебя… прошло? Ну, это самое, цыганщина твоя кончилась? Переболел? Или…
— Знаешь, Мария, все гораздо серьезнее. Пожалей меня.
— Что?! Его пожалеть?! Я заявление подаю на развод, а он…
— Все равно пожалей. Поднатужься и погладь меня по голове. Вот этой вот… — Потапов медленно опустил руку, пытаясь нашарить пальцы Марии, но ладонь ее успела выскользнуть из ладони Потапова, оставив на скамье, на ее холодной рейке, мгновенно растаявший островок телесного тепла.
— Ты слышишь, Потапов, я подаю на развод.
— Слышу. Не подашь.
— Это еще почему?!
— Потому что поздно. Мы уже старые, Мария.
— Старые?! Да нынче баба в сорок лет только и начинает быть женщиной! И форма цела, и содержания — сколько угодно.
— Содержания, пожалуй, больше, чем нужно. Как бы форма не рассыпалась под его напором. Только ведь я не о том… Мы привыкли друг к другу, Мария. Обувку поменять и то проблема: покуда при трется — нахромаешься. А тут родного человека неродным заменить! Все равно что старое сердце новым, чужим или искусственным. Надолго ли хватит?
— Думаешь, я сегодня заявление написала? После того как ты с девочкой за город съездил? Ошибаешься. Больше года тому назад. Уже и бумага пожелтела.
— Недействительно. На пожелтевшей бумаге.
— Не говори чепухи.
— А тогда почему не подала до сих пор? — спросил для проформы, потакая Марии, чуя, как нужен ей этот полусерьезный треп.
— Это с моей-то работой крутежной? Весь день как белка в колесе. А когда вынырнешь из делишек — все казенные учреждения уже заперты. Может, сам отнесешь? Раз уж ты с фабрики ушел?
— Ушел, говоришь?
— Откуда мне знать. Может, тебя ушли? Тогда почему Озоруев не в курсе? Звонил мне в редакцию, справлялся о твоем здоровье. Приходится врать, изворачиваться. Наплела ему что-то о нервишках, что телефон у тебя отключен и что лучше тебя не трогать денек-другой.
— По принципу: не тронь, чтобы не пахло?
— А что, разве не так?
С улицы к их подъезду свернула машина и, слепя фарами, двинулась в сторону лавочки, сотрясаясь, а порой и подпрыгивая на выбоинах в асфальте. Наконец-то водитель догадался выключить дальний свет, бьющий в две струи, как из огнеметов. Стало видно, что подъехал белого цвета «жигуленок». Дверца водителя распахнулась, кто-то, не мешкая, выбрался из приземистой машины и чуть ли не бегом припустил к дому, вернее — к скамейке, на которой сидели Потапов с Марией.