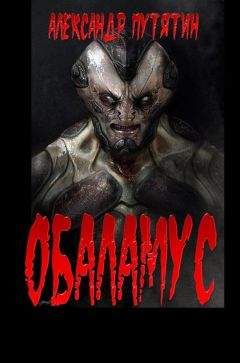Где-то совсем рядом, чуть правее движения колонны, внезапно шум ветра и шорох людского движения просекла четкая от близости и мороза автоматная очередь. Сейчас же бухнули в ответ винтовочные выстрелы. Справа, с сопки, филином в ночи: гу-гу-гу, хо-хо-хо, — заговорил вражий пулемет. Этот пулемет за звуки его стрельбы из дота в гулкую лощину так и звался филином. Пули прошлись по мерзлым деревьям с таким же стуком, какой, бывало, в детстве получался, если бегом вести по сухому забору палкой: тук-тук, тук, тук, тук…
И снег вихрем сыпанул с ветвей на двигавшихся внизу людей.
„Чего же Абрамов не заткнул ему глотку? — встревожился Тарасов. — Ведь специально напоминал. Или шума делать не хотел, или подойти было нельзя. Так чего же он молчит теперь? Давить его надо скорее!“
Точно в ответ на эту мысль комбата на сопке грянули гранатные взрывы. Словно подстегнутая этими одиночными поначалу, хорошо различимыми выстрелами и взрывами, со всех сторон взметнулась яростная пальба, перемеженная гранатными взрывами, криками „ура“, матерщиной, вскриками своих и чужих голосов. Движение людей замедлилось, точно споткнувшись о что-то, но не остановилось. Мимо комбата влево и вправо метнулись бойцы, сразу пропадая в темноте, и там, куда они бежали, тоже густея, свирепея, разгоралась стрельба. Но еще громче, злее была пальба на сопках слева и справа. Это оставленные на месте ушедших сюда рот взводы, выполняя приказ, создавали шум, чтобы сбить противника с толку.
Состояние человека перед боем, вступление в бой и ощущение его в бою, пожалуй, можно сравнить с тем, что испытываешь, если необходимо переплыть быструю, холодную, широкую реку. Глядя на темную стремнину, заранее чувствуя на теле ледяную свинцовую воду, человек нехотя идет к берегу, трогает воду рукою, и от этого первого прикосновения его передергивает и невольно отталкивает прочь. Но плыть надо, и один медленно, другой сразу кидается в водный поток. Тело так и опалит сразу, и вскрикнешь даже от холода, но течение начинает сносить, и ты борешься с ним как-то, забыв о стуже, гребешь и гребешь к тому берегу, стараясь только переплыть и стать на твердую землю.
В первые секунды, как раздалась стрельба, Тарасов вздрогнул, приостановился, как и все, невольно приклонился, когда пулеметная очередь прошлась над головою. Но как только стрельба усилилась, горячка боя привычно вкипелась ему в кровь, и он, стоя под деревом, не обращая внимания на певшие кругом шальные пули, на грохот пальбы, кричал своим бойцам одно и то же:
— Вперед, ребята! Вперед! Не задерживайся, вперед!
Бойцы, тоже уже пережившие первые минуты предбоевой оторопи, рвались на вражьи укрепления и без этого его крика. Голос командира только подбадривал их, а не подгонял.
Кто-то разобрал, что он кричит, кто-то нет, большинство и вовсе не слышали его, но этот уверенный голос командира и то, что он тоже был здесь, со всеми, и стоял не боязливо, когда пули секли ветви, действовало на людей бодряще, и они смелее и смелее рвались вперед. Движение людей снова пошло все быстрее. И уже рев пальбы и взрывов не задерживал, а точно все подгонял и подгонял их. Батальон неудержимо рвался вперед.
Так бушующая перед земляною плотиною вода вдруг перебросится через преграду маленькою струйкою, точно слезою по щеке пробежит: следом переплеснется еще струйка, еще и еще, и вот уж роет землю маленький ручеек, а вода напирает и напирает, и взметываются волны, ударяя в сдерживающую их плотину. И все полнеет и полнеет, злее и злее ревет в прорыве поток воды, унося с собою новые и новые комья земли, и если вовремя не остановить его, то водная лавина помчится неудержимо, сметая все на своем пути. Ни Тарасов, да и никто здесь не видел всего, что делалось кругом. Он слышал только пальбу, взрывы и крики, видел всплески взрывов и то непрерывно вспыхивавшие от пулеметов и автоматов, то сверкавшие там и тут от винтовочных выстрелов короткие беловатые огоньки. И, как всякий, он делал то, что ему полагалось теперь делать. Он даже не понял, отчего сзади шел гул. И только до хрипоты крик:
„Подайсь, подайсь!“ — заставил его обернуться.
Виляя меж деревьев, темной громадой шел танк. Пройдя чуть вперед, он остановился, что-то взвизгнуло там, ствол пушки прошел вправо, и тотчас звонкий, будто разбили громадное стекло, выстрел секанул воздух. На сопке ухнул взрыв. Пулемет примолк на мгновенье, но сразу же с еще большей торопливостью, прямо захлебываясь злобой, заработал снова. Опять грянул выстрел, и пулемет замолчал. Танк дернулся и пошел дальше. Тарасов не сразу понял, откуда взялся этот танк. Но, поняв, что это командир полка направил сюда обещанные танки, обрадовался. Слева тоже загрохали пушечные выстрелы, перекрывая ружейную и пулеметную пальбу. И уж не стрельба стала слышна, а все нараставший, дружный крик: Ура-а-а!!»
И рядом с комбатом, и сзади, и впереди все ринулись вперед, и он тоже уже несся вперед со всеми, крича: «Ура-а-а!!.»
И радость его, и ликованье росли оттого, что движение вперед шло без остановки. Победа! Он всем существом своим ощутил, что враг сломлен. Там еще стреляли, еще ухали гранатные взрывы, но уж реже, разрозненней. Справа и слева стрельба была все той же, и оттого затихание боя здесь чувствовалось особенно явственно. Пока бой кипел с одинаковым накалом, не слышно было, что делается по сторонам, теперь же грохот стрельбы и взрывов справа и слева вроде все усиливался и усиливался. На самом деле он был все тот же, только здесь становилось тише и тише, и оттого слышней и слышней было, что делалось на соседних сопках. Тарасов несся по истолченному лыжами, ногами, взрывами снегу, злясь, когда земля вдруг попадала под лыжи и тело невольно дергалось вперед. Как и все, он стремился скорее пересечь рубеж вражеской обороны, и сам не думая почему, ощущал, что там, за этим рубежом, будет спокойней, безопасней, легче. Наверное, его торопило простое стремление скорее уйти от опасного места.
Вдруг он чуть не налетел лыжами на ползущего по снегу человека. Это был наш раненый. Тарасов тотчас узнал, что это был наш потому, что в правой руке у него была трехлинейка. Весь вывалянный в снегу и оседавший глубоко в рыхлый снег, раненый полз рывками. Выкинув вперед руку с винтовкой, он упирался на нее и тяжело подволакивал тело чуть вперед, потом медленно снова выкидывал руку и волочил тело вперед. Тарасов метнулся к нему.
— Куда тебя?
— Ноги и рука… — проговорил раненый и, с трудом сдерживая стон, притих.
— Дай перевяжу.
Раненый повернулся, чтобы удобней было перевязывать, узнал комбата и даже подался чуть назад.
— Ты чего это? — поразился Тарасов.
— Ступай, — тихо проговорил раненый.
— Чего?
— Иди, говорю! — крикнул раненый с какой-то даже злостью, но, поняв, видно, что кричит не по делу, добавил потише: — Иди, комбат, я сам… Иди, там без тебя нельзя… Иди… Я сам…
И, повернувшись в прежнее положение, раненый снова выкинул руку вперед и потащил по снегу свое тело.
Никакой приказ, никакой страх, никакие убеждения не подействовали бы теперь на Тарасова так сильно, как эти слова раненого солдата, это его поведение. Весь сумбур чувств, переживаний, невольных желаний избежать опасности слетел с него. С удивительной ясностью он увидел и услышал все кругом и сообразил тотчас, что надо было делать. Он увидел торопливо, тенями во тьме мелькавших меж деревьев людей, стремившихся в одну сторону, услышал, что стрельба шла уже сзади, ощутил настороженную тишину впереди и оглянулся вокруг себя. Несколько человек были рядом с ним.
— Связисты есть? — спросил он.
— Здесь, товарищ комбат.
— Нитку протянули?
— Да.
— Передайте командиру полка: батальон прорвался.
— Есть передать — батальон прорвался!
— Связные кто есть?
Точно сунутый кем-то в спину, перед ним вынырнул маленький боец, кинул к ушанке руку:
— Связной второй роты Огурцов!
— Передай ротному: собрать людей. Двигаться вперед без остановки, но с оглядкой. Пусть вышлют вперед группы боевого охранения.
Связной повторил приказ и исчез в темноте. От третьей роты связной тоже находился на месте, остальных не было. Пришлось остановить первых попавшихся бойцов и передать этот приказ с ними в первую и четвертую роты. Собственно, о том, как двигаться после прорыва, была договоренность заранее, и Тарасов напоминал об этом только потому, что ротные после горячки боя могли и подзамешкаться на месте.
Он не приказывал помочь раненому, потому что в сознании его не укладывалось представление, что для этого нужен приказ. Для него неслыханным делом было бы, если бы это тотчас не сделали без понукания. И это действительно тотчас стали делать. Он слышал не только стон, а скрип зубами и какое-то натужное кряхтение раненого, и, как у няньки, голос Никитича:
— Потерпи маленько, еще маленько потерпи…