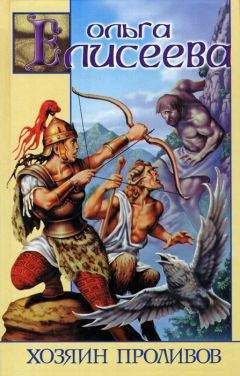— Генерал Жилинский писал уже, — продолжал Унковский, — что идти в Восточную Пруссию это значит обрекать войска на верную гибель.
— Что же, батюшка, делать, — сказал старый генерал, подняв вместе с плечами руки и хлопнув ими по коленям, — наш долг перед союзниками прежде всего. Вдруг они подумают о нас плохо…
И нельзя было понять, серьёзно он говорит или шутит.
— Почему бы из Польши сразу не зайти во фланг, — заметил худощавый полковник, — отрезать всю Восточную Пруссию и…
— …и попасть в тиски справа и слева, — иронически докончил старый генерал, заметив при этом, как хозяин дома бросил взгляд в сторону сидевших на диване женщин. — Нет, батюшка, — продолжал старый генерал, — тут, сколько ни думай, — результат один. Уж если приходится нам в петлю лезть, то лезть лучше не раздумывая. Что мы, кажется, и делаем… А то у нас и так плана почти никакого нет, а начнём думать, так раз десять переменим и то, и что есть. Вон Самсонова назначили командовать Второй армией, а он и места-то эти, небось, успел позабыть; в Туркестане пять лет виноград кушал. Да и назначение-то чуть не накануне похода получил.
Старый генерал зажёг спичку, чтобы закурить папиросу, но отвлёкся и не закурил.
— Отправили-то его туда на рысях, побриться не дали, да ещё то и дело меняют направление, как я слышал, а резервы его где-то сзади ковыляют. Хотя это нам и не важно, нам важно то, чтобы наши г о с п о д а увидели, как мы для них стараемся.
Слушатели невольно смотрели на догоравшую в руке генерала спичку, и каждый отвлекался тем, что ждал момента, когда генерал обожжёт пальцы, и это мешало внимательно слушать.
Спичка догорела до пальцев, и генерал, удивленно-испуганно вздрогнув, отбросил её в пепельницу.
— Почему у нас сейчас ничего не подготовлено, не организовано, а мы всё-таки лезем? — сказал генерал, закурив от спички, которую ему зажёг Унковский. — Потому что все требуют скорейшего наступления. Двор требует его, потому что великие князья засиделись в девушках и давно боевых наград не получали; наше передовое общество требует, потому что не терпится поскорее освободить Европу от ига милитаризма. (Как бы это освобождение боком не вышло.) Дамы требуют наступления… — тут он с шутливой улыбкой поклонился в сторону хозяйки дома и Ольги Петровны, как бы прося извинить его вольность, — дамы требуют наступления, потому что это очень интересно.
— Вы, генерал, нелестного мнения о нас, — сказала Ольга Петровна, как бы не замечая взгляда мужа Риты.
— Я правду говорю, — сказал генерал, сделавшись серьёзным.
— Но теперь, благодаря назначению Николая Николаевича, ваше желание не замедлит исполниться, — прибавил он, опять в шуточном тоне обращаясь к дамам. — Он народный герой. Слышали? Он объявил, что поляки, доказавшие свою лояльность как на русской территории, так и на территории А в с т р о-В е н г р и и и Г е р м а н и и, будут находиться под особым покровительством наших армий и правительства. Кроме того, он сделал благородный жест в сторону Польши своим манифестом. Не знаю только, насколько нам поверят…
— У вас ужасные мысли, ваше превосходительство, — сказал, улыбаясь, Унковский.
— У меня монархические мысли, и я предпочёл бы монархических, а не республиканских союзников. Это нам больше к лицу.
Ольга Петровна уловила взгляды, какие бросал на неё хозяин дома, но делала вид, что ничего не заметила.
— Говорят, император хотел взять на себя командование армиями? — сказал худощавый полковник, придав вопросительное выражение своему жёлтому, длинному лицу.
— Да… — заметил генерал, неопределённо пожав плечами, — но…
На нескольких лицах мелькнули улыбки в ожидании того, что скажет генерал.
Но он сказал другое, чем ожидали:
— Его величеству нужно быть в центре управления страной.
Лица всех опять стали серьёзны, и они, как бы вспомнив о торжественности момента, сделали вид, что улыбнулись совсем по другому поводу.
— Государь, говорят, на днях приедет в Москву? — спросила Ольга Петровна.
— Да, пятого августа будет высочайший выход, — ответил ей Унковский.
— Мне хотелось бы посмотреть.
— К вашим услугам, — сказал Унковский, стоя с заложенным за борт сюртука большим пальцем и слегка поклонившись гостье. — Мы поедем вместе, если хотите.
— Вы принимаете меня в свою семью? — сказала Ольга Петровна, и на её губах мелькнула лукавая улыбка. Эта улыбка как бы говорила, что она заметила интерес хозяина дома к себе, но что этот интерес слишком привычен для неё и ничего заманчивого не представляет собой.
Она сейчас же отвернулась от него и возобновила свой разговор с Ритой.
Старый генерал сказал:
— Конечно, германцев мы не пустим в пределы России, потому что у нас огромное преимущество перед ними — скверные дороги или вовсе отсутствие их. Это наш главный козырь. И конечно, Германия будет разбита; конечно, мы победим, — говорил генерал, на каждой фразе делая движение обеими руками, как будто что-то бросая на пол. — Но вот какой толк будет из всего этого, мы ещё не успели об этом подумать. Нужно ещё помнить, что мы вооружаем мужиков и рабочих. Вам лучше знать, чем это может кончиться, — сказал он, обращаясь к Унковскому.
— О, на этот счёт будьте покойны. Только на днях мы в Петербурге захватили хорошую партию красной рыбы. А рабочие в целом даже патриотически настроены.
— Не забудьте ещё, что в командном составе в лице прапорщиков мы в изобилии будем иметь таких субъектов, которых в другое время на версту не подпустили бы к армии. Весь этот третий элемент, земские служащие, юристы, — прибавил генерал, протянув по направлению к Унковскому руку, как бы вспомнив упущенную важную подробность.
— Ничего не забудем, — сказал, весело смеясь, Унковский.
Рита, беседуя с Ольгой Петровной, уловила заинтересованные взгляды, какие муж бросал на её подругу, и под влиянием этого у неё, очевидно, созрела какая-то мысль. Она наклонилась к подруге и тихо сказала ей:
— Знаешь, что?… Жоржа переводят в Петербург. Поедем с нами. — Она несколько времени смотрела на Ольгу Петровну, как бы желая видеть, как она воспринимает её предложение. — Ты со своим умом и красотой займёшь там достойное тебя положение, и мне окажешь большую услугу…
Ольгу Петровну задело то, что на неё смотрят, как на непристроенную, и что её положение небогатой помещицы расценивается, по-видимому, как очень плохое положение. У неё в лице вдруг мелькнуло выражение упорной и злой решимости:
— А где я буду жить?
— Жить можно у нас… пока это не будет тебя стеснять.
— А ты не боишься, что я могу нарушить твоё семейное спокойствие?
— Ты можешь только укрепить его… так как оно сейчас уже нарушено… — сказала Рита, украдкой взглянув на мужа. — У него здесь увлечение, которое причиняет мне много горя.
— О чём вы здесь секретничаете? — спросил, подойдя к ним, Унковский.
— Мы секретничаем о том, что мужчины занялись своими военными делами и совсем забыли о нас, — сказала Ольга Петровна, в первый раз прямо взглянув на него и сейчас же поднялась и стала прощаться.
— Куда же ты? Побудь ещё.
Но Ольга Петровна отказалась остаться.
— У вас, очевидно, очень решительный характер, — заметил Унковский, когда они вышли в переднюю и Ольга Петровна, стоя перед зеркалом, надевала шляпу, принесённую Ритой из будуара.
— Да, это одно из моих свойств.
Она надела поданный ей жакет и лёгким движением расправила плечи и грудь.
— Я очень раскаиваюсь, что уделил много внимания военным делам… — сказал Унковский.
— Итак, вы везёте меня в Кремль? — проговорила Ольга Петровна, не ответив на его несколько игривую фразу.
Она как-то особенно порывисто обняла Риту, стоявшую рядом с мужем, и быстро исчезла за дверью.
Старый генерал был прав: никогда ещё русское общество не было охвачено таким жадным нетерпением, как теперь, в ожидании наступления русских войск в Восточную Пруссию.
Оно было наэлектризовано интересом к тому, что должно было совершиться, какое лицо примет жизнь, когда в неё вольётся совершенно н о в о е содержание — необыкновенное и волнующее.
Общество раздражала медлительность, с которой стягивались к германской границе русские армии: они могли только на двадцатый день после мобилизации вступить в соприкосновение с неприятелем. И лишь по настоянию Франции этот срок предполагалось сократить на пять дней.
И когда нетерпеливым говорили, что нельзя же бросаться в бой, не подтянув резервов, то им возражали, что захватить общество в момент высочайшего подъёма и не дать успеть разрядиться этому подъему — важнее всяких резервов.
— Не тяните, не охлаждайте подъёма, наступайте! Войска рвутся в бой. Народ не простит такой медлительности! — таков был голос общества и части придворных кругов.