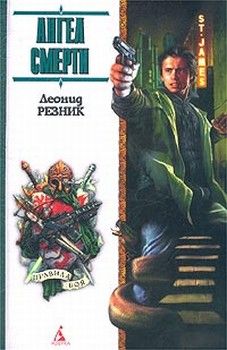У силосной ямы, из которой, как из котла с варевом, валил пар, два мужика вилами бросали в открытый кузов автомашины темно-зеленую силосную массу. Аникей задержался около них, спросил:
— Сколько машин отвезли?
Никто не ответил ему — то ли мужики не слышали его вопроса, то ли притворились. В другое время он живо нагнал бы страху, но тут смолчал и, даже не повторив вопроса, потоптался около машины, пошел дальше.
Сегодня он прямо-таки жаждал, чтобы кто-нибудь обратился к нему хоть с какой-нибудь просьбой. То вечно с утра до ночи только и слышишь — разреши то, отпусти это, помоги тем-то, а нынче ни один не заикнулся.
В правление Лузгин вернулся вконец расстроенный.
«Это их Егор настропалил, в уши нажужжал,— думал Аникей.— Иисусиком себя выставляет, авторитет зарабатывает».
Но как бы дурно он ни думал о Дымшакове, это не приносило ему облегчения. Он тихонько прошел по коридору и без стука втиснулся в небольшую комнату-боковушку, где ютилась сторожиха правления, она же уборщица, а при нужде и посыльная.
— Нюшка, ты дома?
В сумеречном углу на кровати зашевелился шубняк, сторожиха свесила босые белые ноги, с хрустом потянулась.
— Тсс! Будет тебе, бесстыжая! — понизив голос, зашикал Аникей.— И когда ты только выдрыхиешься?
— Мне за сон не платить,— сладко раздирая в зевоте рот, сказала Нюшка и, громыхнув стулом, слезла с кровати.— Не мятушись, садись вон... Не часто ты в нонешний год гостишь у меня...
— Может, еще что брякнешь? — сердито просипел Аникей.— Не до тебя мне сейчас, прямо петля подходит...
Он насупился, сдернул с головы фуражку, полез в карман за платком.
— Сроду ты ноешь, Аникей! Петлю, вишь, на него заготовили. Ты сам ведь из кого хошь веревку совьешь да еще на этой веревке и удавишь!
— Замолчи ты, звонкодырая! — кивая на дверь, взмолился Лузгин.
С тех пор как он знал Нюшку, она всегда была вот такая озорная, дерзкая па язык. Он и сам толком не понимал, что привлекало его к ней: и лицом не очень удалась, все оно изрыто мелкими оспинами, и нос пуговкой. Но в выражении Нюшкиных смутно-темных глаз, в скользящей плутоватой улыбке, постоянно тревожившей полные сочные губы, таилось столько нерастраченной лукавой ласковости, что за одно это Аникей прощал ей эти внешние изъяны. К тому же они с лихвой восполнялись ее телом — ловким, молодым и крепким, с двумя рожками грудей, сводивших Аникея с ума, пухлыми, не по-крестьянски бе-
лыми руками с нежными ямочками у локотков, мягкой и гибкой кошачьей походкой. Она действовала на Аникея как дурман, и, стоило ему побыть с нею немного, как он становился сам не свой, размякал от нежных чувств, готов был забыть обо всем на свете.
Вот и сейчас он притянул Нюшку к себе, опустил руку на ее тугое плечо.
— Ишь сдобная какая.— Он легонько похлопал женщину пониже спины.— Одну картошку мнешь, а добра как с одних сливок...
— Без толку можно гладить одну телку,— отстраняясь, проговорила Нюшка.— Или своя костлявая рыбина надоела? Обкалываешься об нее?
— Вот бес! — Аникей опять прижал ее обеими руками к себе, потерся лбом о ее грудь.— Ты ведь хуже самогона всякого, пропадешь с тобой!..
— Сказывай, куда идти,— не отвечая на ласки Аникея, сказала Нюшка и, освободившись от его объятий, набросила на голову платок.— Загонял до смерти!..
— Выпростай уши-то из-под платка.— Аникей понизил голос до хрипучего шепота.— Потолкаться надо везде, послушать, что люди брешут промежду собой, поняла? Да мусор-то всякий не собирай, а покрупнее что...
Нюшка повела кончиком носа, как бы принюхиваясь, сонливость мигом исчезла с ее лица, а в блудливых глазах заиграли колдовские искорки.
— В случае чего — ментом ко мне! Ясна установка?
— Ну дык! — фыркнула Нюшка.
— А пока суд да дело, покличь мне Черкашину!
Он прошел к себе в кабинет, присел к столу с зеленоватым стеклом посредине, тоскливо скользнул взглядом по вороху бумажек. Все вроде на мосте — и длинный стол, примыкавший к его председательскому столу, окруженный торчащими спинками стульев, и стеклянная пепельница на красной скатерти, и чистые, приготовленные к зиме окна с белой ватой и черными угольками между рамами, и широкое полотнище переходящего знамени, которое стояло за его спиной в углу, полуразвернутое, с золотыми буквами и длинными кистями. Но сегодня Аникею чего-то недоставало. Может быть, привычного чувства уверенности, что он останется хозяином этого кабинета и завтра и послезавтра, до тех пор, пока сам не запросится на покой?
Черкашина явилась так быстро, что Лузгин не успел еще решить, как с ней нужно разговаривать — грубо, в открытую или мягко, увещевая. Нетвердый народ эти бабы:
сегодня одно, завтра другое, пусть хоть во вред себе, лишь бы не по-старому!
Она была одета, как всегда, по-монашески строго — в черный костюм и мужские сапожки. Черные, без блеска волосы были причесаны гладко, на пробор, от этого сухощавое лицо ее, сейчас полное настороженного ожидания, казалось еще длиннее.
— Звал? — спросила она и, достав пачку папирос из кармана, закурила.
«Тоже нервы не железные,— с удовлетворением подумал Аникей.— Как душа не на месте, сразу начинает дымить!»
— Видишь, какое дело,— начал миролюбиво Аникей.— Давеча ты убежала, а- сама того не смекаешь, что обстановка у нас, возможно, сложится крутая, и ежели мы все повезем врозь, так нас разбросают кого куда — костей не соберешь!..
— Давай не крути,— неожиданно резко прервала его Черкашина.— Говори папрямки — чего ты хочешь от меня?
— Я? От тебя? — притворно удивился Лузгин и засмеялся с короткими всхлипываниями.— Я добра хочу всем и тебе тоже. Разве ты от меня плохое видела?
— Так, значит, ты меня позвал, чтобы я лишний раз тебе, в верности поклялась? — нервно затягиваясь папиросой, спросила Черкашина и поднялась.
— Не закипай! Не плещи через край, сама себя обваришь! — посоветовал Аникей.— Я к тебе с открытой душой, а ты плюнуть туда норовишь!.. Я твое мнение желаю внать — стоит ли идти в работники к Любушкиной или лучше своей семьей жить? По-старому, как жили?
— Спроси народ...
— Я хочу знать, что у тебя на уме! А народ что дышло: куда повернешь, туда и вышло!
Черкашина долго гасила окурок в пепельнице, мяла его жёлтыми, как от йода, пальцами.
— Каким ты, Аникей, стал поганым и подлым! — наконец тихо сказала она и подняла на него полные нескрываемого презрения глаза.— Как ты смеешь так говорить о народе, без которого ты, как старый дырявый мешок, ничего не стоишь! Правду люди говорят, что ты потерял всякий стыд и совесть и как трухлявый пень у всех на дороге.
Меньше всего Аникей Лузгин. ожидал, что Черкашина станет нападать на него, да еще с такой откровенной злобой. На какое-то мгновение он даже струсил: а вдруг ей
что-нибудь известно такое, чего он сам еще не знает? Разве стала бы она говорить с ним так смело и вызывающе оскорбительно? Но показаться слабым и беззащитным перед нею он не хотел.
— Вон как ты запела, пташечка-канареечка! — язвительно протянул он и осклабился.— Политике учить меня вздумала, да? А сама какой политикой жила, когда от моего брательника тушку баранью в подарочек брала? Или у тебя совесть резиновая — на сколь хочешь растянешь ее, а?
— Да откуда ж я тогда знала, что мясо ворованное? — отшатываясь, как от удара, слабо возразила Черкашина.— Вы же уговорили меня, знали, что муж мой с голоду еле ноги таскал... Думала, спасу его! А так я бы разве взяла вашу подачку?
— Гляди, дело твое — может, кто и поверит тебе, что ты ничего не понимала, была как младенец чистый!..
— Меня ты можешь затоптать, но тебе, Аникей, это не поможет.
— Цыц, продажная душа! — рявкнул Лузгии и грохнул кулаком по столу.— Ты еще не знаешь, что я могу с тобой сотворить!..
Черкашина, ни слова больше не говоря, накинула на плечи серую вязаную шаль и стремительно вышла из кабинета. Аникей кинулся было за нею, но остановился. Черт с ней, пусть уходит! Пока его еще не свалили, не подмяли, он легко сдаваться никому не намерен.
До дома Аникей не шагал, как обычно, а бежал впритруску, изредка останавливаясь и хватаясь за сердце: оно так и рвалось наружу. Ломило виски, лицо
набухало кровью, казалось, еще шаг — он упадет и больше не встанет.
Пока добрался домой, в глазах потемнело. В сенях он опрокинул стоявшее не на месте ведро, поддел ногой пузатую кошку и вихрем ворвался в прихожую.
— Серафима! — что есть мочи заорал он.— Живв-а-а!
— Да чего ты горло дерешь, как вахлак какой? — недовольно отозвалась из горенки жена.— Можно подумать, режет тебя кто!
— Тебя бы на мое место, не так бы еще взвыла,— но унимался Аникей, сбрасывая и кидая куда попало фуражку.— Поди, опять морду штукатуришь?
— Постыдился бы! Что ты понимаешь, некультурный ты мужик!