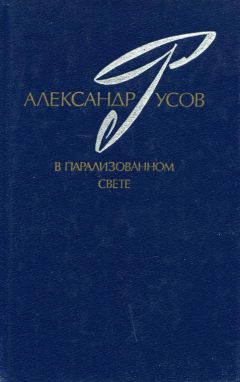— Бюргер.
— Бюргер. Бюргер… — точно припомнил наконец он. — То-то и оно что Бюргер…
Тем временем Иван Федорович, настроенный самым благодушным образом, продолжал уговаривать Бориса Сидоровича успокоиться, не обращать внимания на всякие досадные мелочи, а тот на это только отвечал:
— Стар я уже, мой милый, в такие игры играть.
Из-под валика выползало:
АСКОЛЬДОВА МОГИЛА
ПЕСОК СКОРО УТЕЧЕТ
ПОХОРОНИТЕ ТЕЛО ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
— Сейчас закончим, — донесся голос Орленко.
Машину словно заело. С каким-то неистовым ожесточением она печатала одно и то же:
ПЕСОК СКОРО УТЕЧЕТ
ПОХОРОНИТЕ ТЕЛО ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
АСКОЛЬДОВА МОГИЛА
Вдруг все лампы, освещавшие зал, разом мигнули, свет померк и смутные болотные огоньки заметались вдоль приборных щитов и досок, точно охваченные лихорадкой.
— Вот и двенадцать. Минута в минуту.
— Хоть часы проверяй.
Денис выпрямился, потер затекшую поясницу.
— Включай.
— Пусть сначала перейдут на ночной режим.
— Что-то закопались мы…
Из двери напротив сильно задуло.
— Прикройте! — капризно потребовал Борис Сидорович, но никто не двинулся с места.
Иван Федорович вновь углубился в свой отчет.
— Наверно, я самый молодой, — с нескрываемым упреком произнес Никодим Агрикалчевич и отправился закрывать распахнутую сквозняком дверь.
Едва он вышел из освещенного круга, непонятное волнение охватило его. Никодим Агрикалчевич оглянулся. Отсюда, из полутьмы, были хорошо, предельно отчетливо видны и львиная, всклокоченная грива Бориса Сидоровича, и умный, насмешливый профиль Ивана Федоровича. Денис с Николаем о чем-то спорили. Алексей Коллегов склонился над рабочим столом. Никодим Агрикалчевич прекрасно видел их всех, его же не видел никто.
И такая вдруг навалилась тоска, такая тревога закралась в душу. Товарищ Праведников сделал несколько ватных шагов в направлении все более сгущающейся тьмы и остановился как вкопанный. В слабом лунном свете, просачивающемся сквозь полуоткрытую наружную дверь, возникли ясные очертания мужской фигуры, для которой, скорее всего, Никодим Агрикалчевич тоже оставался невидим, хотя за его спиной сияло море электрических огней.
Он никак не мог признать мужчину, застывшего в дверном проеме, и от этого неузнавания ему сделалось совсем жутко. Луна была огромная, полная, но только какого-то редкостно рыжего цвета, и потому волосы незнакомца казались огненными. Он продолжал недвижно стоять в дверях, уставившись невидящими, безжизненными глазами прямо в расширенные от ужаса зрачки Никодима Агрикалчевича.
«С какой стати?..» — подумал контрольный редактор, ощутив болезненный укол в сердце. Он протянул руку, чтобы схватить ночного нарушителя, однако пальцы поймали пустоту. Тогда Никодим Агрикалчевич попытался позвать на помощь, но получился лишь жалкий, сдавленный хрип.
Лунный свет по-прежнему освещал край стены, деревья, траву, пробившуюся в щели между каменных плит, белеющую в темноте дорожку, однако никакого нарушителя не было. Стояла теплая, безветренная июльская ночь. Никодим Агрикалчевич с трудом закрыл дверь. Его трясло, ноги совсем не держали. Он оперся спиной о косяк. Постоял немного, потом, несколько придя в себя, вернулся в освещенный круг.
— Что с вами? — испугался, первым увидев его, Алексей Коллегов. — На вас лица нет, Никодим Агрикалчевич.
Контрольный редактор только слабо махнул рукой.
— Это сердце, — убежденно заключил Княгинин. — Или мозговой спазм. В любом случае рекомендую валидол.
— Лучше бы десять капель Вотчала, — возразил Иван Федорович. — Мне, признаться, тоже не по себе. Давление, что ли, меняется? Таким холодом вдруг пахнуло. Точно зимой.
2. БЛИЗКО К ТЕКСТУДо утра горели огни над ареной, кружилась рулетка, вращалось колесо Фортуны, работала мельница. Трудовой люд подтаскивал связки разноязычных текстов к жерлу машины, которая то отшелушивала словесный сор, то пускала в отвал полезный продукт, а то и перемалывала заодно зерна и плевелы. Инженеры регулировали зазор между жерновами, лингвисты и переводчики следили за тониной помола, тогда как контрольный редактор проверял чистоту муки, следя за тем, чтобы она была такой же белой, как души смертных, прошедших полную санитарную обработку в чистилище.
Поглощенный совершенствованием институтских систем управления, Никодим Агрикалчевич не забывал и о первейшем своем производственно-общественном долге. Время от времени он брал щепотку муки, растирал между пальцами, нюхал, пробовал на вкус и ставил свою заковыристую подпись на бирке, сопровождавшей товар, готовый для отправки потребителю. Забракованная же продукция снова становилась сырьем и засыпалась в бункер, после чего повторно оказывалась на редакторском столе.
Вновь входящая в моду рок-музыка с трудом, едва слышно пробивалась из портативного магнитофона на столе Алексея Коллегова. Он притопывал ей в такт, аккомпанировал, постукивая ручкой по столешнице, а то вдруг входил в раж и исполнял соло ударника. Работа кипела. Пульсирующие сгустки звуков отлетали в вязкую черноту окружающего пространства. Тексты шли сплошным потоком, так что заглядывать в оригиналы было просто некогда. Не вдаваясь в суть, Алексей заменял первое попавшееся слово, ставил недостающую запятую, отчеркивал синим карандашом заглавие, оттискивал в правом верхнем углу штамп: «Перевод». Потом дата, подпись — и готово. Тум-тум-тум! Пам-пам-пам!..
Кайф исходил не только от музыки, но и от всей обстановки этой празднично украшенной мельницы-дискотеки, от самого ощущения летней ночи. Случайные мысли, видения, переживания причудливо переплетались между собой, перетекали друг в друга, точно густые клубы сладковатого, дурманящего дыма. Сверкали, перемигивались, подергивались в такт музыке огни «Латино сине флектионе», этой новой Машины Времени, способной разом перенести человека в другую жизнь, к неведомым берегам, населенным свободными людьми, беспечными, пленительными женщинами.
«Неплохой парень, — рассуждал про себя Никодим Агрикалчевич, приглядываясь к Алексею. — Только, пожалуй, немного невыдержан. Идеологически».
Это был тем не менее очень серьезный недостаток, извинением которому могла служить разве что молодость Алексея. Сам контрольный редактор следил не столько за содержанием переведенных текстов, сколько за той частью дискретного перевода, которая, собственно, и была узловым моментом Лунинской системы. Особое внимание приходилось обращать на всякие сомнительные словосочетания, грозящие отвлечь исследователей от генерации новых научных идей в должном направлении. Все, вызывавшее принципиальные возражения, выписывалось в особую тетрадь, а затем товарищам переводчикам и операторам предлагалось рассмотреть вопрос об изъятии тех или иных структур из машинной памяти. Если предложения контрольного редактора не встречали понимания со стороны сотрудников, он готовил распоряжение, в котором содержимое особой тетради доводилось до сведения руководителя отдела, делались соответствующие выводы и давались конкретные рекомендации. Виген Германович, как правило, со всем соглашался, ибо справедливо считал, что от редакционных сокращений богатый русский язык не обеднеет и система как целое не пострадает, авторитет же контрольного редактора следовало всемерно поддерживать и укреплять. Иначе говоря, слово Никодима Агрикалчевича было решающим и фактически обжалованию не подлежало.
Впрочем, до конфликтов дело доходило чрезвычайно редко. Обычно переводчики шли навстречу пожеланиям Никодима Агрикалчевича и заменяли неподходящие слова. Однако некоторые вставки-интерапторы, на изъятии которых настаивал контрольный редактор, не объясняя, впрочем, мотивов, по которым считал их обременительными для машинной памяти, изловить почему-то не удавалось, и временами они вдруг некстати выплывали на свет божий.
Несколько оправившись от ночного потрясения, связанного, скорее всего, действительно с неполадками в сердечно-сосудистой системе, Никодим Агрикалчевич занялся довольно спокойной и наиболее, пожалуй, интересной для него работой — просмотром текущих выписок.
1. «Для природы, переходящей из бессознательного состояния в сознательное, — воскрешение есть такое же необходимое и естественное дело, как для природы слепой естественны рождение и смерть».
2. «Всеобщее свидание всех поколений есть великая будущность, которая ожидает прошедшее, если настоящее поймет свое назначение, дело, цель».
3. «Для всех откроется ширь, высь и глубь необъятная, но не подавляющая, не ужасающая, а способная удовлетворить безграничное желание, жизнь беспредельную, которая так пугает нынешнее истощенное, болезненное, буддийствующее поколение. Это жизнь вечно новая, несмотря на свою древность, это — весна без осени, утро без вечера, юность без старости, воскрешение без смерти…»