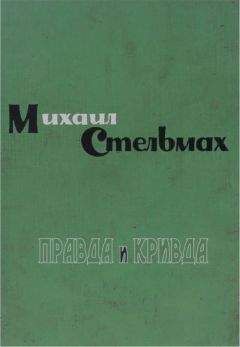Когда заскрипели и громыхнули церковные двери, Григорий Стратонович спросил Марка:
— Как вам наш душеспаситель?
— По-моему, жизнелюб.
— И даже бабник.
— До сих пор?
Григорий Стратонович засмеялся:
— До сих пор. Однажды под хмельком признался, что его грешить заставляет только давняя привычка, а не что-то другое.
— Хорошее имеете соседство. Чего он так поздно приходил? Проверить, как приемыш ведет хозяйство или привела любовь к храму божьему?
— Скореє, любовь к водке. Наверное, где-то немного не допил. А в ризнице у него есть некоторые запасы не только красного вина. Может, воспользуемся ими? Не раз отец Хрисантий соблазнял меня в подходящий час наведаться в его закуток.
— Глядите, еще этот душеспаситель споит вас, — улыбнулся Марко.
— Такое не угрожает мне. Но сегодня можно было бы отметить ваш приезд.
— Спасибо, воздержусь.
— Не употребляете этого зелья?
— Употребляю, но теперь, к сожалению, перешел на наперстки: медицина так обчекрыжила мне внутренности, что там теперь больше души, чем тела… Полуживого выпотрошили, разобрали меня как-то в подземном госпитале, а здесь как ударит артналет и перекалечил чуть ли не всех, кто работал возле меня. Остался я сам и через некоторое время, придя в сознание, сгоряча встал на локти. Нигде никого, только на операционном столе лежат возле меня все мои внутренности и потихоньку паруют. Никогда не думал, что такие они непривлекательные и так их много. Но потом медицина так походила с ножами, что остались рожки да ножки: постарались, чтобы человек меньше хлеба и напитков потреблял.
Григорий Стратонович с сочувствием и увлечением взглянул на Бессмертного:
— Чтобы кто-то так сказал о своем увечье, поверьте, впервые слышу!
— Поверю. А теперь заиграйте, Григорий Стратонович, что-то душевное, печальное.
— Печальное? Почему?
— А в этих песнях, кажется мне, всегда больше души.
— Вы же подтянете?
— Об этом и не просите. Тело мое фашисты здорово покромсали, а дух и голос почти довоенного калибра остались.
— А мой голос, как и молодость, оборвался в турецкой неволе… Слышал, что много знаете песен.
— Какой украинец не знает их? На бесхлебье, или на хлебах, или в хлебах вырастает, а с песней не расстается.
— Это правда, что когда вы вернулись из нехорошего места, то семь дней со своими друзьями выпивали и лишь одни свадебные песни пели?
Марко весело покачал головой:
— И здесь приврали — только четыре дня.
— И только свадебные?
— Только их. Тогда на печальные не тянуло.
— И на четыре дня хватило свадебных песен? — с недоверием посмотрел на Марка.
— Как раз только на четыре, а дальше пошли работать. Да вы не удивляйтесь, тогда у меня память крепче была и к песням, и к книгам. Не начнем ли с «Забіліли сніги та забіліли білі»?
Печальной тоской и стоном отозвались струны кобзы; в унылом звучании загрустила песня двух бурлаков над судьбой неизвестного человека, который вместо судьбы имел несправедливость, холодную, как снега забелевшие, но имел и верность побратимскую, горячую, как кровь, набежавшая из чистого сердца.
Молчаливые святые, застоявшиеся на своих пожизненных местах, с удивлением прислушались к житейскому пению, а Марку не раз казалось, что их песню слушает еще кто-то, притаившийся в темени возле дверей. Это снова и снова напоминало ему встречу с неизвестной женщиной.
«Не причудлива ли судьба его?» — послал мысли к разрушенной школе и во все концы, где встречал или проходил мимо того, что люди назвали судьбой.
Где-то, как в подземелье, невыразительно пропели первые петухи. Марко встрепенулся, прислушиваясь к полузабытому пению.
— Как быстро время прошло, — начал собираться домой.
— И для меня мелькнуло, как минута.
Григорий Стратонович провожал Марка до руин школы. Здесь он, как перед этим Марко, тоже поднял кусок холодного камня и молча взглянул на него.
— Спрашиваете, когда школа будет?
— Спрашиваю, потому что живу ею и во всех наилучших снах вижу ее. Думаете, роскошь морозить ваших детей в церкви, а своих на колокольне?
— Как на колокольне? — удивился и нахмурился Марко.
— А кто же мне зимой в сожженном селе мог приготовить хоромы? Вот и нашел себе на колокольне временный приют. Есть у меня пятеро детей…
— Пятеро!? — с недоверием переспросил Марко. — Сколько мира, столько и дива! Когда же, извиняйте, вы разжились на пятеро детей? Где время взяли?
Заднепровский улыбнулся:
— Время обо мне само позаботилось.
— Близнецами награждало?
— Нет, обошлось без них, а то еще больше было бы.
— Так вы до встречи с Оксаной уже имели деток? Ничего не понимаю.
— И не коситесь, Марко Трофимович, придется еще задержать вас до третьих петухов одной историей.
— Рассказывайте.
— Может, присядем на срубе?
— И это можно, — Марко, зацепив головой клюку журавля, сел на балку, а напротив него примостился Заднепровский.
— История эта тяжелая и простая. Был в моем отряде один разведчик-сорвиголова, из тех, что и в ад с песней полезет. Сам статный, глаза большие, с огнем и смехом пополам. Вызовешь иногда его, ставишь перед ним такую задачу, что у самого заранее душа болит, а он стоит, улыбается и глазами играет, как на рассвете:
— Выполню, товарищ командир, ей-богу, выполню, а что мне, молодому-неженатому.
Поначалу его самоуверенность раздражала, коробила меня — все грешил, что проявляет легкомыслие или бравирует мужичонка, и начинал свою лекцию:
— Понимаешь, Кульбабенко, что от этой задачи зависит судьба сотен людей? Соображаешь, что нужно проявить ловкость и осторожность, расшифровывая фашистскую систему охраны? На этом деле, как и сапер, можно ошибиться только один раз. Ничего не делай, как это ты умеешь, с копыта!
Он будто серьезнее станет, сверкнет двойным взглядом смельчака и остряка и сразу же заверит:
— Конечно, товарищ командир, все понял до крышки! На больной зуб черту должен наступить. Но не сомлевайтесь: притаюсь у эсэсовцев под носом, как мышь под метлой…
Выпалит такое, и у тебя от сердца отляжет.
— Береги себя, Иван.
— Конечно, буду беречь, отец. Ночь, наша мать, — не даст погибать, — скажет звонко, уверенно, козырнет и с улыбкой исчезнет, растает в первобытный лесах, словно лесной царь. И так же неожиданно выныривал из ночи, в грязи, в своей и чужой крови, но непременно выполнив задачу. В его фортуну начали верить даже нытики и кислые люди, которые больше, чем надо, думали о смерти. Кто-то о нем даже песню сложил. Она прибилась и к нашему отряду. Помню, как-то вечером запели ее ребята у костра, и на нее именно наткнулся с разведки герой. Поняв, что поют о нем, он сразу побледнел, возмутился, замахал руками:
— Ребята, оставьте это безобразие.
— Чего? — удивились партизаны.
— Потому что я еще живой…
Сколько его ни убеждали, он стоял на одном, что песни должны петь только об умерших, и ужасно сердился, когда кто-то начинал петь о нем.
И как-то в сильную гололедицу зашел ко мне в землянку наш особист, вы его знаете, теперь он работает в нашем районе начальником МВД.
— Как его фамилия?
— Григоренко Демид.
— Григоренко? — пораженно переспросил Марко. — Этого знаю еще с двадцатого года. Хороший мужичонка, только страх каким недоверчивым был.
— И теперь таким остался, — улыбнулся Григорий Стратонович. — Так вот, заходит он ко мне, садится на колоду и неожиданно спрашивает:
— Как тебе, Григорий, спится вообще?
— На сон и сны, — говорю, — не обижаюсь.
— Не обижаешься? — многозначительно переспрашивает особист, которого часто мучила бессонница. — А на разведчиков тоже не обижаешься?
— Чем же они провинились?
— Кто его знает чем, — загадочно посматривает на меня. — Кульбабенко еще не вернулся?
— Нет, сам знаешь.
— Ничего я теперь вообще не знаю, — с сердцем пригнулся к печке, рукой вытянул уголек, прикурил. — А не долго ли, по-твоему, разгуливает он по разным местам?
— Думаю, не долго, — начинаю беспокоиться, не попал ли Кульбабенко в фашистские лапы, заглядываю мужчине в глаза, а он отводит взгляд от меня. — Что-то случилось?
— Да пока что и сам не знаю… А что ты вообще думаешь о Кульбабенко?
— Что же о нем можно думать? Герой!
— Герой? Ты уверен? — презрительно переспрашивает. — Но чей герой?
— Да чего ты начал со мной разговаривать загадками? Что тебя беспокоит?
Григоренко пропек взглядом:
— Успехи его беспокоят. Большие успехи! Видишь, в песню уже успел попасть. Так, гляди, и в историю попадет, тогда снимай шапку перед ним, — надвинул картуз на глаза.
— А чего, может, и придется снять! Еще мы не знаем, что он может сделать.