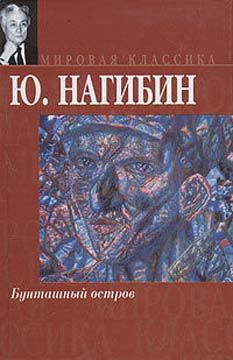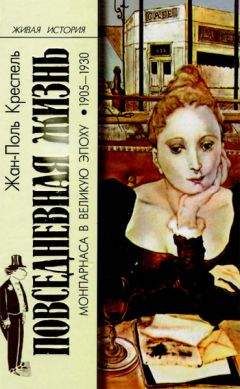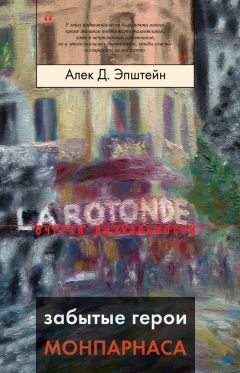Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, затем, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность… Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекла все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубахе.
Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала: если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, создающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица: скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась Фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне — пусть это звучит кощунством — не мешало, что его лишь половина. Легче было представить, что и другая половина была столь же совершенна.
Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, неморгающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на рубашке спороты, с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое мужественное лицо наверняка смягчилось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашину светлую душу и омертвить его взгляд. Ее неуемное воображение, смещение теней да почудившаяся интонация наделили обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слежку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодцев яркую, пронзительную синь.
— Паша!.. — закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. — Паша!.. Паша!.. Паша!..
Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не удивлялась, не пугалась того, что обезножела. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.
Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстранение, словно его это ничуть не касалось.
Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть…»
Ночью случилась мерзость: по мне пробежала крыса. Пашка отнесся к этому спокойно: «Подумаешь, по мне сколько раз бегали». — «И по Сергею Никитовичу», — напомнил я. «Ну, сравнил!.. Ты же отмахнуться можешь». Пойди отмахнись этой клешней. Да мне до них дотронуться противно. Я с детства боюсь крыс. Ну, не боюсь, конечно, а невыносимо брезгую. Мне их вид омерзителен: голые лапы, длинные хвосты, кровавые глаза, гнусный навозный цвет шерсти. Когда я был совсем маленьким, мне в кроватку забралась крыса. Ее сразу прогнали, но страх остался. Не страх — омерзение. Такое бывает даже у самых мужественных людей…
Ночи становятся все беспокойнее, крысы совсем обнаглели. Топают, как солдаты по мосту. Я чувствую, как они задевают внизу одеяло. Я ору, стучу палкой по полу — Пашка привязывает к моей руке сосновый сук, ни черта не помогает. На минуту затихнут и опять пошли шуровать. И чего они носятся? Харчи наши стоят на полках в кухне, до них им не добраться. Голодные крысы хуже волков. К нам, что ли, подбираются? А Пашка спит…
Пашка сделал помост из разных железяк и поставил на него мою койку. Сюда, говорит, никакая крыса не доберется. Крысы, кстати, умеют прыгать, и довольно высоко. Я помню, бабушка раз пыталась прихлопнуть крысу скалкой (наша тогда еще коммунальная квартира кишела крысами), так та подпрыгивала на полметра. Но может, это с испуга? Пашка уверяет, что я в безопасности. Он подвинул свою койку к моей, обезопасив с одного фланга. Надо только, чтобы одеяло не свешивалось, и крысам до меня не добраться. Пашка так старательно пакует меня на ночь, что я сплю, как младенец в конверте. И все-таки мне неспокойно и что-то сердце не очень. Стучит так, что в ушах отдается…
Пашка попросил у меня почитать мой дневник. Вроде бы неудобно давать, там и о нем много. А потом я подумал: что тут неудобного, я ничего не врал, писал о том, что видел, и о своем понимании происходящего. Никого обидеть не хотел. Даю я ему тетрадку. Он полистал, усмехнулся. Сейчас скажет о «куриной лапе». Не удержался мой дорогой дружок: «Ну и почерк у тебя. Будто куриной лапой». — «Хуже, говорю, как рачьей клешней». Он засмеялся и стал читать. Я обиженно думал: почему люди, даже умные и тонкие, не могут удержаться от ехидных банальностей? Ну какой каллиграфии ждать от безрукого, чудо, что я вообще пишу. И вдруг успокоился: почерк в самом деле хуже некуда — взбесившаяся кардиограмма. И промолчи Пашка, я бы мучился, что он ни черта не разбирает, злится и проклинает мои каракули. А так он отреагировал и с присущей ему обстоятельностью включился в работу.
Читал он медленно, до каждого слова докапывался, но ни разу не обратился за помощью. Это тоже в Пашкином духе: справляться самому. Прочтя, долго думал, заглядывал то в одну, то в другую страницу, наконец высказался:
— Интересный документ. Единственный в своем роде. Надо, чтобы он сохранился… Ах ты, богоярский Нестор!.. — Как-то очень по-доброму это у него прозвучало. — А любопытная штука — литература. Дневник тоже литература, хотя вроде для себя пишешь. Я многое не так видел, как ты. Кое-чего вовсе не заметил, а я ведь приметливый, да и обязан был все видеть. Ты, наверное, так ухватист именно потому, что должен был писать. Я понял теперь… Тот… который про меня написал, он не просто врал, он иначе видел… Что-то, конечно, присочинил, не мог же он всего знать… Но вот что странно: иной раз такое чувство, будто он ко мне внутрь залез, а иной раз зло берет: зачем врать, когда правда снаружи видна? Он, конечно, был в тот день на Богояре, видел нас с Анной, знал ее семью. Зачем только он придумал, что она погибла?..
* * *
«…Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что видит его, да еще так близко… Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитываемой жизни и вдруг всей нахолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, — рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроют на стук, двор. Она прекрасно плавает, Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами — плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А остальное как-то образуется…
Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом — ни души… Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо — он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогревалось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание…