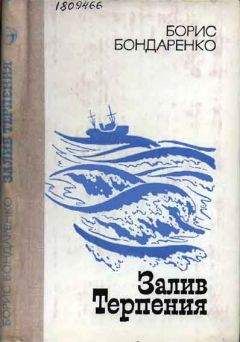Он невесело посмотрел на Анну Григорьевну, закурил и медленно продолжал:
– А впрочем, не так уж и неожиданно... Сейчас-то вижу, что и раньше выпадали времена... не слишком благополучные. Не внешне, – тут у меня действительно все на редкость удачно шло, – а, как бы это сказать... иногда чувствовал я, что все-таки что-то не так, не то... как-то по-другому надо бы жить. Но почему «не то» и как же это по-другому жить надо – даже отдаленно не догадывался. Сейчас-то вижу – любви во мне не было, и не только любви к жене, к женщине, а вообще... человеческой любви. Вот вспомнил сейчас – три года назад жена болела, две недели в больнице лежала. Ничего серьезного не было – да ведь все-таки болезнь, и не кто-нибудь болеет, а жена... А знаете, что тогда часто раздражало меня? Что мне с сыном приходилось много возиться, и работать как прежде я не мог. Черт знает что, омерзительно даже вспоминать об этом... Подумайте только – не о живых, самых близких мне людях главная забота была, а об этих формулах, уравнениях, каких-то закорючках... И ведь логика-то какая! Болезнь, мол, самая заурядная, ты отлично знаешь, что ничего с женой случиться не может, – чего же тогда волноваться? А вот как подумал, что и к Лиле тогда, в то лето, мог бы так отнестись, – и дико стало, потому что знаю – никак не мог! А вот с женой мог! Отводил сына в сад и преспокойненько усаживался за работу, и так не хотелось иногда отрываться, чтобы идти в магазин или в больницу. И ведь в голову не приходило, что это... скверно, гадко, бесчеловечно!
У него давно уже болела голова, и тут заломило в висках так, что он невольно поморщился. Анна Григорьевна заметила это, участливо сказала:
– Устали вы, Саша. Может быть, ляжете?
– Да нет, посижу еще... Это не усталость, просто – нехорошо мне. На душе... очень уж тяжело. Много скверного в своем прошлом вижу. И что-то никак до конца понять не могу, почему я такой. А ведь сам во всем виноват... Знаете, я никогда не верил в то, что человек – игрушка в руках судьбы и что все зависит от каких-то обстоятельств, в которые он попадает... Ссылка на обстоятельства – удобный предлог для оправдания всяческих больших и маленьких мерзостей. Пьянствует человек – обстоятельства такие, жену и детей бьет – тоже обстоятельства виноваты, подлость какую-то сделал – и тут оправдания находятся... Чепуха все это. Каждый в конце концов сам творит свою судьбу. Вот и я тоже – сам себе пустыню сотворил... Да только когда это началось? Вот сейчас вспоминаю – я очень рано усвоил, что добиться чего-то можно, только работая изо всех сил, отдавая всего себя какому-то делу. Любимым моим героем в детстве был Мартин Идеи – именно за его фантастическую работоспособность, за его упорство. И печальный его конец совсем не смущал меня – уж со мной-то такого не случится! И работать я действительно научился... Я даже очень хорошо умею работать! – со злостью сказал Александр. – Так хорошо, что, пожалуй, немногие еще так умеют... И все с детских лет еще говорили мне, как это хорошо – уметь работать. И учили, как надо работать... И почему-то никто не догадался хотя бы намекнуть, что учиться нужно и тому, как надо любить, как быть добрым, человечным, как понимать людей, думать о них, заботиться...
Он покачнулся на стуле и тяжело оперся руками о стол.
– А впрочем, что это я говорю... Как раз о любви-то пишут и говорят куда больше, чем о том, как надо работать. Ну да книги – это только книги... Вот пытаюсь сообразить – уж не потому ли я так вел тогда себя с Лилей, что это стремление к работе, к успеху подспудно вело меня во всем, направляло всем? Если так, то... страшновато.
Александр помолчал – и с усилием продолжал:
– Вот думаю сейчас: кончится мой отпуск, уеду я от вас – а что дальше будет? К Лиле-то, кажется, действительно нельзя ехать. Чувствую, что нельзя, и права она во всем. Может, и в самом деле я не ее люблю, а нашу прошлую любовь, может, даже только тоску по любви... Как скверно я говорю... И знаете, хоть и сказал я вам, что уже решил не возвращаться к жене и сыну, а... чувствую, что не возвращаться как будто и нельзя. То есть сейчас нельзя, потом, может, и уйду я от них, а сейчас непременно надо ехать... Хотя просто не представляю, как я жене в глаза смотреть буду, что скажу ей... Вот вы сказали – я совсем не так плохо отношусь к ней, как из моих слов получается. И знаете, как-то Поразило меня само слово «относиться», помните, я даже переспросил вас... Потому и поразило, что очень точно прозвучало. Только дело ведь в том, что к жене я не «относиться» должен, а любить ее, понимаете? Как-то относиться я, например, к вам могу, к товарищам по работе, к случайным попутчикам, а к жене это слово никак не должно подходить. А я все эти восемь лет именно относился к ней. – Александр вымученно улыбнулся. – Может быть, даже и неплохо относился, а любви не было... А может быть, я и вообще никого любить не могу? – высказал он уже и раньше промелькнувшую догадку. – Ведь и такое, вероятно, возможно... Как вы думаете, Анна Григорьевна, бывает так?
– Наверно, бывает, – не сразу сказала Анна Григорьевна. – Только зря вы так настраиваете себя.
– Да нет, Анна Григорьевна, я не настраиваю... Я в себе пытаюсь разобраться. Надо же... хоть раз в жизни до конца понять себя. Я чувствую, что сейчас от этой попытки многое зависит. Может быть, вся моя дальнейшая жизнь. – Он поднялся из-за стола. – Пожалуй, и в самом деле пойду лягу... Спасибо, что выслушали меня.
Когда он засыпал – вспомнилось: «С язвою бессмертной совести как справляетесь, бедняк?»
«Как хорошо сказано, – успел подумать он. – Наверно, совесть и в самом деле бессмертна... Хорошо, что так...»
И заснул.
Подходила к концу третья неделя его пребывания здесь, и Александр, уже понимая, что не будет никакого письма, назначил себе день отъезда. Но пришел этот день, а он остался, сказав себе: завтра. Но не уехал ни завтра, ни послезавтра.
Уезжал почти через неделю, утром пасмурного дня, – тихого, теплого. И дождь шел теплый, весенний.
Встал он рано, неторопливо собрался, Долго смотрел в окно, на сад, мокнущий под тихим теплым дождем. Потом стал перечитывать свое так и не отправленное письмо, в котором прибавилось много новых листков. Читал и видел, что так и не сумел объяснить Лиле то, что хотел, а когда прочел о ласковых словах, которые он не сможет сказать теперь Лене, ему даже стыдно стало – так поверхностно и беспомощно выглядели они. И он подумал, что хорошо сделал, не отправив письмо, положил его в чемодан и пошел к Анне Григорьевне пить чай.
Присели на дорогу. Погрустневшая Анна Григорьевна сказала ему:
– Хорошо мне было с вами, Саша. Будете снова в этих местах – заезжайте проведать.
– Обязательно заеду, – сказал он, зная, что никогда уже не приедет в этот город и не увидит Анну Григорьевну. И она поняла его, помолчала и первая поднялась:
– Ну, поезжайте и будьте счастливы.
И вышла на крыльцо проводить его.
Он пошел по красной кирпичной дорожке навстречу почтовому ящику и, видя, что в нем ничего нет, все-таки по привычке открыл его и заглянул внутрь. Там ничего не было. Ящик был пустой и мокрый.
В Москву он прилетел на следующий день, и после тихой жизни у Анны Григорьевны шумная сутолока плотной, непрерывно движущейся массы людей раздражала его, он болезненно щурился от яркого солнечного света, инстинктивно избегал соприкосновения с толпой. Дел в Москве у него не было, и он собирался сразу ехать домой, но долго ходил по городу, покупал подарки жене и сыну и, наконец решившись отправиться на вокзал – вдруг зашел в пивной бар. Недолго сидел один, нехотя потягивал пиво, оглядывал низкий прокуренный зал, освещенный холодным белым светом. А потом сели за его стол четверо молодых рослых парней, разговаривающих уверенными громкими голосами. Было им лет по девятнадцать-двадцать, и Александр с неожиданным любопытством стал присматриваться к ним. Почему-то появилось острое желание узнать – чем живут эти люди, как думают и – как любят?
Четверо не обращали на него никакого внимания, словно никого, кроме них, и не было за столом. Тон в разговоре задавали двое – у одного на правой руке поблескивало золотое обручальное кольцо, у другого на лацкане пиджака внушительно вырисовывался прямоугольный значок «Мастера спорта».
Говорили они о предстоящих экзаменах, о каких-то компаниях, вечерах и выпивках, – и о девушках. И обо всем говорилось одинаково – ровными, небрежными голосами, щедро пересыпали свою речь жаргонными словечками, безаппеляционно кидали «мура», «чудишь, старик», «заметано», бездумно матерились, почти не понижая голоса. Александр видел, что это маска, стереотип бездумного поведения, – обязательная небрежность, чуть-чуть цинизма, снисходительная самоуверенность, – но что скрывалось за этой оболочкой? И зачем понадобилась им эта маска?
Маска казалась безукоризненной, плотно приросшей к этой четверке, – за полчаса разговора ни один из них не сбился с заученного тона. И они, вероятно, сами не замечали, как безлико выглядят со стороны, какой наивной кажется их самоуверенность, и Александр с недоумением подумал: зачем им это нужно? Ведь – не глупы же они...