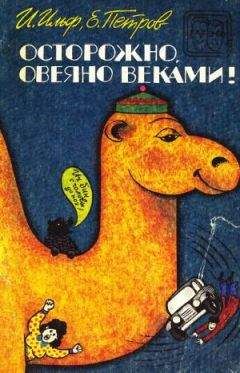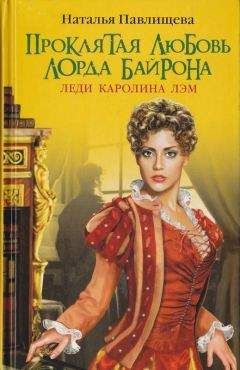– Вифиль? – спросил он. – Сколько страниц?
– На машинке двенадцать, – ответил дед Мурзилка.
– Абер, – сказал капитан, – их штербе: я умираю. Ведь это все-таки собака. Так сказать, хунд. Она не может двенадцать страниц на машинке. Я буду жаловаться.
– Это что же, вроде как бы самокритика получается? – усмехнувшись, спросил председатель. – Нет, теперь я ясно вижу, что этой собаке нужно дать по рукам. И крепко дать.
– Брудер, – умоляюще сказал Мазуччио, – это еще юная хунд. Она еще не все знает. Она хочет. Но она не может.
– Некогда, некогда, – молвил председатель, – обойдемся без собаки. Будет одним номером меньше. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.
Здесь побледнел даже неустрашимый капитан. Он подозвал Брунгильду и вышел из цирка, размахивая руками и бормоча: «Это все-таки хунд. Она не может все сразу».
Следы говорящей собаки потерялись.
Одни утверждают, что собака опустилась, разучилась говорить свои унзер, брудер и абер, что она превратилась в обыкновенную дворнягу и что теперь ее зовут Полкан.
Но это нытики-одиночки, комнатные скептики.
Другие говорят иное. Они заявляют, что сведения у них самые свежие, что Брунгильда здорова, выступает и имеет успех. Говорят даже, что, кроме старых слов, она освоила несколько новых. Конечно, это не двенадцать страниц на машинке, но все-таки кое-что.
На зеленой садовой скамейке
На бульваре сидели бывшие попутчики, союзники и враги, а ныне писатели, стоящие на советской платформе. Курили, болтали, рассматривали прохожих, по секрету друг от друга записывали метафоры.
– Сельвинский теперь друг ламутского народа.
– А я что, враг? Честное слово, обидно. Затирают.
– Тогда напишите письмо в «Литгазету», что вы тоже друг. Так сказать, кунак ламутского народа.
– И напишу.
– Бросьте, Флобер не придал бы этому никакого значения.
– Товарищ, есть вещь, которая меня злит. Это литературная обойма.
– Что, что?
– Ну, знаете, как револьверная обойма. Входит семь патронов – и больше ни одного не впихнете. Так и в критических обзорах. Есть несколько фамилий, всегда они стоят в скобках и всегда вместе. Ленинградская обойма – это Тихонов, Слонимский, Фе-дин, Либединский, Московская – Леонов, Шагинян, Панферов, Фадеев.
Комплектное оборудование критического цеха.
– Толстой, Бабель, Пришвин никогда не входят в обойму. И вообще вся остальная советская литература обозначается значком «и др.»
Плохая штука, «и др.» Об этих «и др.» никогда не пишут.
– До чего же хочется в обойму! Вы себе и представить не можете!
– Стыдитесь. Стендаль не придал бы этому никакого значения.
– Послал я с Кавказа в редакцию очерк. И получаю по телеграфу ответ: «Очерк корзине». Что бы это могло значить? До сих пор не могу понять.
– Отстаньте. Бальзак не придал бы. этому никакого значения.
– Хорошо было Бальзаку. Он, наверное, не получал таких загадочных телеграмм.
– Можно рассказать одну историю?
– Новелла?
– Эпопея. Два человека перевели на венгерский язык повесть Новикова-Прибоя «Подводники». Повесть очень известная, издавалась множество раз. Свой перевод они предложили венгерской секции Издательства иностранных рабочих в СССР. Через некоторое время повесть им с негодованием возвратили, сопроводив ее жизнерадостной рецензией. Я оглашу этот документ.
– Оглашайте!
– Вот что написали о книге уважаемого Алексея Силыча: «Обывательское сочинительство с любовью и подводными приключениями без какого-либо классового содержания. Ни слова не сказано о движении, которое превратило империалистическую войну в гражданскую, и это сделано двумя русскими писателями».
– Почему двумя?
– Не перебивайте. Дайте дочитать «…двумя русскими писателями. Не только слепота, но преступно намеренная слепота. Матросы Новикова и Прибоя…»
– Что за чушь!
– Слушайте, слушайте!
«…Матросы Новикова и Прибоя бессознательно идут на войну…» Ну, дальше чистая материнская ласка: «…все это теряется в тошнотворном запахе каналов лирики… Матросы не знают марксизма-ленинизма. Этот роман из-за своего содержания даже не достоин обсуждения».
– Кто это написал?
– Чья чугунная лапа?
– Фамилию!
– Автора рецензии зовут Шарло Шандор.
– Надо сообщить в МОРП.
– Да не в МОРП, а в МУР надо сообщить. Это уже невежество со взломом.
– А мне кажется, что Свифт не придал бы этому никакого значения.
– Ну, вы не знаете Свифта. Свифт снял бы парик, засучил бы. рукава коверкотового камзола и разбил бы в этом издательстве все чернильницы. Уж я знаю Свифта. Он хулиганов не любил.
– Братья, меня раздирают противоречия великой стройки.
– Десятый год они тебя уже раздирают. И ничего, потолстел. Стал похож на председателя велосипедно-атлетического общества.
– А всегтаки они меня раздирают, и я этим горжусь. Тя-я-я-жко мне! Подымите мне веки! Нет, нет, не подымайте! Или лучше подымите. Я хочу видеть новый мир. Или нет, не подымайте! Тя-я. – я… – В-самом деле, человек как будто страдает.
– Да нет. Просто выпал из обоймы и очень хочется обратно. А в обойме уже лежит другой писатель, гладенький, полированный в новом галстуке.
– Скажите, о чем автор думает в ночь перед премьерой своей первой пьесы?
– О славе, которая его ожидает.
– О кладбищенских венках, которые вдруг могут поднести нетактичные родственники.
– А может быть, он думает о позоре, о кашляющем зале, о непроницаемых лицах знакомых.
– Вернее всего, думается ему о том, как он, потный, трусливый и неопытный, вылезет на сцену, чтоб раскланиваться с публикой. И лицо у него будет, как у нищего. И всем будет за него совестно, и какая-нибудь девушка в зрительном зале даже заплачет от жалости.
– То ли дело вторая или третья пьеса. Выходишь напудренный, томный Вертинский, кланяешься одной головой. А на премьере первой пьесы сгибаешь все туловище.
– Мольер не придавал этому никакого значения.
– Читал я дневник Софьи Андреевны Толстой.
– Только не рассказывайте содержания. Все читали.
– Нет, я к тому, что моя жена тоже… вроде Софьи Андреевны… описывает мою жизнь.
– Воображаю, какие там интересные подробности. «Сегодня мой Левочка очень сердился на вегетарьянский завтрак, требовал мяса. До самого обеда ничего не писал. В обед съел много мяса. Катался в трамвае, чтобы освежиться. Не писал уже до вечера. Потом приходили люди из провинции, спрашивали, в чем цель жизни. Сказал, что не знает. Ужинал с аппетитом». Вот и вся ваша жизнь, как на блюдечке.
– Что это за шутки? Что за интеллигентский нигилизм!
– Бросьте. Фукидид не обратилбы на это никакого внимания.
– Дид Фукидид, он же запорожец за Дунаем.
– Шпильгаген не сказал бы такой глупости.
– Ну, не знаете вы Шпильгагена.
Недавно в Московскую психиатрическую больницу доставили нового клиента. Клиент был не то чтоб очень буйный, но какой-то отчаянный и нахальный.
Он все время лез куда-то вперед, толкал врачей животом и грудью, наступал санитарам на ноги и отвратительным голосом выкрикивал:
– Сходите? Сходите? А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают!
Доктора успокаивали больного, пытались взять его за руку, но он не давался.
– Что же вы не сходите? – визжал он. – Тоже, стоит как столб! Сходят там на Арбате?
– Сходят, сходят, – говорил хитрый доктор.
– Все сходят? – подозрительно спрашивал странный больной.
– Все, все, – убеждал доктор.
– А там впереди? Вон та старушка сходит?
– Сходит, сходит, уверяю вас.
Тем не менее новый больной вдруг багровел, со страшной силой толкал доктора в зад коленом и раздирающим голосом орал:
– Пройдите в вагон, там впереди совсем свободно!
Это был ужасный человек. Его ненавидели, больные. Они даже собирались его убить. Шизофреники, шизоиды и кроткие маньяки жаловались на него главному врачу. Они утверждали, что еще никогда в сумасшедшем доме не было такого беспорядка, какой внес туда новоприбывший псих.
Научная мысль была обеспокоена. Болезнь нового клиента нельзя было подвести ни под одно известное определение. Это не был бред величия. Не было здесь и бреда преследования. Больного, конечно, нельзя было назвать тихим идиотом. Не могло быть и речи о черной меланхолии. Куда там! Какая там меланхолия!
Долго совещались психиатры и наконец установили симптомы нового помешательства. Диагностика обогатилась новым названием – «трамвайный бред».
Не у всех пациентов болезнь протекала одинаково. Особенно тяжелой формой отличался бред, подхваченный на трамвайной линии № 34. Немножко легче было с пациентами, заболевшими на линии «А». Больные же, доставленные с линии «Б», страдали затяжной, почти хронической формой помешательства.