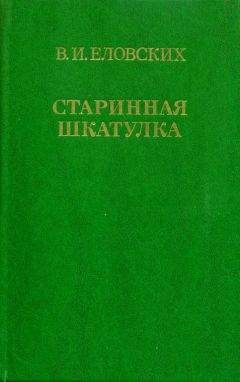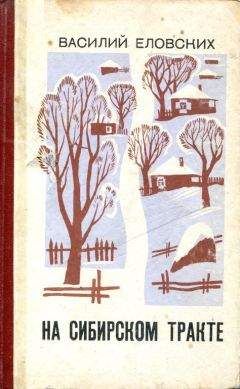А потом была война, долгая, казалось, нет ей конца; казалось, так и будет он ходить и бегать с винтовкой, окапываться, стрелять, слушать знакомые, с первых же дней осточертевшие грубые звуки боя и обманчивую траншейную тишину, замирать, припадая всем телом к земле, чувствуя, как порою вздрагивает она, болезненно, надсадно, будто живая, и видеть, как стены огромных домов разваливаются подобно карточным домикам, ужасающе быстро и просто. Он любил тогда петь печальную песню: «А до смерти — четыре шага…» — хотя знал — бывает достаточно и одного шага… Его награждали, то орденом, то медалью. Были и ранения. Все было. За бои в Берлине Николаю Петровичу присвоили звание Героя, о чем он узнал уже после демобилизации.
Теперь-то уж он смело, орлом заявился в свое село, где его когда-то раскулачили. Ему отдали дом и посмеивались: дескать, неладно когда-то получилось, парень, что поделаешь. Лет через десять он еще одну медаль нацепит на праздничный костюм, это уже за работу комбайнером.
С Верой у него все шло, в общем-то, ладненько, они попривыкли друг к другу и жили мирно. И даже были, как говорят люди, чем-то разительно похожи. Наверное, манерами, внешними формами поведения, которые она восприняла у него, а он у нее, чем же еще. Правда, когда-то до войны в душе у него все же таилась какая-то немая, чуть заметная горечь: она-то до меня жила с кем-то, а вот я-то нет… Но позднее, в войну, он обнимал и полячек, и немок, и еще бог знает кого, так что они стали с женой вроде бы квиты, даже с большим перебором у него получилось — тоже нехорошо.
С Машей встречались часто. Еще бы!.. Одно село, хошь не хошь — встретишься. Улыбалась. В гости приглашала. В прошлом году она похоронила мужа.
Вера — еще крепкая старуха, сама все делает по дому. А эта уже вон какая…
У памяти злой норов: в тяжелую минуту, будто на пакость, начинает преподносить тебе всякие неприятные воспоминания, лишь слегка затушеванные далекими годами. Вот и сейчас… Хотел он вспомнить ту, молодую, красивую Машу и не мог. Не получается. Знает: у той были узкая девчоночья талия, большие глаза и темные косы, которые она в замужестве срезала. И больше ничего не помнит. Немного! И вот она лежит седая, с узкими, средь морщин, глазами, совсем вроде бы не та, а какая-то другая. Чужая. Он с грустью подумал: в молодости у человека масса неясностей, еще не полностью осознаешь себя, будущее как в тумане, вместе с волнительной радостью видится что-то и тревожное, опасливое; в старости же все вроде бы ясно, дорога проста и… коротка, к сожалению. Он чуть было не сказал ей об этом, но вовремя передумал (зачем?).
— Прости меня, Маша, если я в чем-то…
Он осекся: «…в чем-то…» Ясно, в чем.
— Давно ты не называл меня Машей.
И в самом деле, давно. Все Семеновна да Семеновна. Или — Мария Семеновна.
— Что счас-то уж!.. — Это он сказал.
— Да!..
— Ну, лечись давай.
Помолчали.
— Если что… приходи хоронить-то.
— Да хватит тебе!
— А все-таки… придешь?
— Если что, дак, конечно, приду. Ты что это? Как ты могла подумать?..
— Дело прошлое, Коля. Но я тогда очень любила тебя, — сказала она глухим голосом, глядя куда-то на потолок. — И до-олго любила. Даже вспоминать страшно. Лежу, бывало, с Иваном моим, а думаю о тебе. Проснуся ночью и тоже все думаю, думаю. Как бы одна была. И одиночество мое вроде бы даже глянулось мне.
«Чем примитивнее человек, тем он тяжелее переносит одиночество», — подумал Николай Петрович и с каким-то новым любопытством посмотрел на больную.
— Ваню жалко было!
— За что жалко?
— А за все… — Поглядела на него.
Какой у нее сейчас странно прилипчивый взгляд. Неприятно от такого взгляда.
Она хотела еще что-то сказать, свое, особое, но в этот момент в избу влетел ее брат, и Мария Семеновна спросила:
— Как жена-то?
— Да ничего. Бегает помаленьку.
— Сын-то у вас в городе?
— В городе. Теперь уж он окончательно осел. Квартиру там ему дали.
Старуха распрямила спину, шевельнула ногами и, болезненно поморщившись, застонала.
Он вышел на улицу вместе с Прохором. Тот говорил почему-то шепотком:
— Да она все вроде бы ничего была. Это смерть мужа ее подкосила. Они ведь с Иваном-то, знаешь, душа в душу жили.
Прохожие почтительно здоровались с Николаем Петровичем. Он отвечал угрюмо. На душе было как-то скверно, тяжело; ноги будто не свои — шагают, шагают.
А ведь она, кажется, все еще любит его. Эта мысль будто током пронзила Николая Петровича. Невероятно! Чушь! А почему невероятно, почему чушь? «Подожди, подожди, что она говорила? Что говорила… особенно в конце? А глаза?.. Нет, это только кажется…» Ему хотелось вернуться к ней и говорить, говорить, утешать. Утешать?.. Что проку, она умирает, сознавая это, и утешение, скорее всего, будет ее раздражать. Николай Петрович вяло махнул рукой.
Он старательно обходил лужи и ямы, наполненные цепкой грязью, и все-таки неожиданно, незаметно попадал в них, ругался про себя и печально думал, что весна вроде бы уже не радует и не волнует его, как когда-то, что ни говори, а годы стушевывают свежесть, яркость впечатлений, вселяют в душу что-то холодное, что-то рассудочное, и в этом вечная трагедия старости.
1980 г.
©«Советский писатель», 1987.
Их пятиэтажка стояла на берегу Тобола, в стороне от других домов, на отшибе, и шумы большого города не доходили сюда, таяли где-то сзади; ночами было тихо, как в безветренном лесу, и это непонятно тревожило Андрея: казалось ему, что его окружает не обычная, а какая-то настороженная, натянутая тишина, готовая вот-вот разорваться. Сегодня тоже тихо, ни огонька, и темнота как бы сероватая, не яркая, — скучно, неприятно в такой темноте; только на западе небо слегка светлеет и чуть-чуть видны контуры старого тополя, нависающего над широким заливом. Восточная часть берега темна, значит, — глубокая ночь: перед утром там зажигают электрофонари, которые отбрасывают на черную, чуть иссиня воду светлые пятна, и по всей реке расплывается тогда легкое красноватое сияние.
Андрей постоял у окна, слушая немую ночь, и осторожно, чтобы не разбудить жену Валю, лег на свое место и затих. Он почему-то часто просыпается, особенно перед рассветом, и подолгу не может заснуть, думая о чем придется, и в такие минуты его страшат мысли о самом себе. «Нет, в абсолютной тишине все же есть что-то тревожное».
Стараясь уснуть, он начал считать: раз, два, три, четыре, пять… и вздрогнул, услышав плач жены; уткнувшись в подушку, она тихо (он не проснулся бы, если бы спал) и надрывно всхлипывала. Он удивился: Валя никогда не плакала и во сне была как ребенок — не храпела, не сопела, и он порой пугался, — уж не умерла ли?
— Что с тобой, Валюша?
— Да ничего, ничего. Спи. — Она проговорила эти слова торопливо, затаенно.
— Нет, все же: что с тобой? Может, заболела? Я включу свет.
Не зная почему, но он тут же понял: она не больна.
— Не надо. Это я так.
— Что значит «так»?
— Я уже не плачу. Спи, спи!
— Ну, слушай, как я могу уснуть?
— Да что-то сгрустнулось. Могу же я когда-то и всплакнуть.
Последнюю фразу она произнесла таким голосом, будто говорила: «Не лезь куда не надо». А когда он снова начал приставать с расспросами, нежно гладя ее мягкое плечо, ответила уже спокойно:
— Да сама не знаю, что со мной. Давай спать.
Вскоре она уснула. А он не спал и все думал, думал. Вспоминал…
Про это Андрею сообщил шофер Матюшкин, молодой еще мужик, вездесущий, вздорный и болтливый, Валин троюродный брат, когда они случайно повстречались с ним после работы у заводской проходной.
— У тя Валя-то что — в отпуске? — спросил Матюшкин.
— В отпуске.
— В доме отдыха обитаитца? — Он улыбнулся. Нехорошо улыбнулся — криво как-то и глядя в сторону.
— Там. А что?
— Да ничо. — Та же улыбка, только ослабленная.
— Хочешь что-то сообщить?
— Да нет.
— Так к чему твоя ухмылка? И все твои слова?
— Да я видел, как она веселилась.
— Пусть, на то и отпуск.
— По-разному можно веселиться-то.
«Вот заладил», — с раздражением подумал Андрей.
— Если хочешь что-то сказать, скажи. А намеков я не терплю.
— Да нет, ничо.
Андрей не ревнивец, он уверен в жене, а точнее сказать, почти уверен, поскольку вместе с уверенностью даже у самых счастливых мужей возникает хотя бы один процент, ну четверть процента, хорошо… пусть одна сотая процента неуверенности, сомнения, возникает подсознательно, против воли, в чем порядочные люди не хотят признаваться даже самому себе.
— Айда пивка дернем, — предложил Матюшкин.
— А где?
— Да вон через квартал. Холодненькое такое…
На углу торговала пивом хмурая толстая женщина. Подошли. Пропустили по кружке. Потом Матюшкин, крякнув, выпил еще. И еще. Все за счет Андрея.