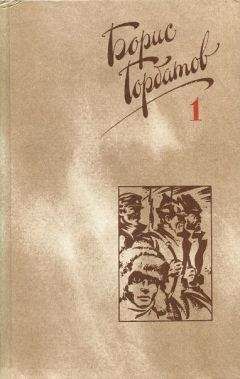— Кар-раул! — закричал он пронзительно. — Убивают!
Рабочие сбежались на крик и увидели дядю Баглия с высоко поднятыми головами сахара.
— У-у-у! — рычал он и потрясал синими головами.
Он чудак, дядя Баглий. Вот он однажды пришел на работу пьяным, впервые за все время, что знает его Павлик. Старые рабочие, однако, не удивились.
— Это его день! — объяснили они, смеясь, Павлику. — Это его день!
Дядя Баглий пришел не один, а с двумя маленькими дочками.
— Вот смотрите, дочки! — кричал он хвастливо и показывал на огромную махину печи. — Смотрите хорошенько, дочки, что ваш отец делает, что это он строит неутомимо… — И он принимался плакать и целовать дочек, рабочих, Павлика.
Слесарь был в чистой вышитой рубахе, в праздничном пиджачке, и бородка аккуратно подстрижена, и волосы расчесаны.
Это был его день. Он был царь. Он был богач. Он был мастер. Широко ходил он по стройке, выпрямившийся и помолодевший. Девочки еле успевали за ним.
— Вот смотрите, дочки! — кричал он. — Вот каупера, вот кожух, вот «колбаса», — словно он показывал им свои владения.
А назавтра, еще более съежившийся и притихший, он снова был на своем рабочем месте.
Все люди чудаки. Павлик никогда не мог бы сказать, как поступит в следующую минуту тот или иной рабочий. Вот он ворчит и ругает все на свете: себя, власть, большевиков, погоду, домну, товарищей, ворча натягивает рукавицы, ворча берет инструмент, ворча идет работать, и вдруг — звончее звонкого раздается его голос:
— Ну, веселее, земляки! Чтоб шипело!
У Павлика были приметливые глаза, жадные к новому: он все видел, замечал, прятал в свою копилку. Друзьями он не успел обзавестись — накопленное ворошил сам, иногда только спрашивал дядьку. Неожиданные эти, ни с чем не связанные вопросы удивляли, сбивали с толку мастера.
— Тебе зачем? — сердито огрызался он.
— Да так, — смущался Павлик, — интересно.
Ему хотелось, например, подойти к мастеру и спросить: «Дядя, почему вы такой?» — «Какой такой?» — растерянно спросит мастер, и Павлик не сумеет объяснить — какой.
Но дядька интересовал его жгуче, так же как и дядя Баглий. Павлику хотелось быть, как они, как они оба, хотя не было более разных людей, чем мастер и слесарь.
И все же было одно общее и у мастера, и у слесаря, да и у самого Павлика: все они яростно любили работу.
Мастер теперь сутками пропадал на стройке. Он даже кровать свою перенес сюда. В маленькой мастеровской «каютке» курилась железная печурка, плохо обмазанная глиной. И на ней все время стоял под парами большой чайник — из тех, что возят с собой кондуктора. Павлик оставался с дядькой здесь на ночь, топил печь и бегал с чайником по воду.
Тетка Варвара приносила им еду. Мужа она боялась, стоя ожидала, пока он кончит есть, молча забирала посуду. Павлик удивлялся: разве можно бояться дядьку Абрама? Он добрый. Но такие уж чудаки: вот он к Павлику добрый, а к детям своим груб и строг.
Когда мастер выходил из «каютки», тетка Варвара давала волю своим чувствам — плакалась Павлику:
— Ой, подохнем мы все, попухнем с голоду! Ой, хоть продавай с себя последнее, из дома неси! Ой, хоть с сумой иди по добрым людям!
Павлик знал: правда в ее словах есть. Теперь, увлеченный стройкой, дядя Абрам не работал дома, на рынок. Вольное, сытное житье кончилось. Семья перешла на паек.
— Та нехай она сгорит, ваша домна! Скоро вы ее кончите? — спрашивала тетка. — Что ему, старому дураку, больше всех надо, что он пропадает там днем и ночью? О семье бы подумал. Як бы не Трофим…
На рынок теперь работал один дядя Трофим. У него были связи с торговцами, он сдавал им сработанную продукцию: то хитроумные зажигалки в виде револьвера или ботинка, то вдруг принимался точить из дерева замысловатые детские игрушки. Потом бросал и это: изготовлял гребенки, брошки, пряжки. А однажды даже взялся выдувать изделия из стекла. Он все умел, и все ему быстро надоедало. Усталый, ничем не интересующийся, молчаливый, он лежал тогда по целым дням на кровати, посасывал трубку и наполнял комнату тяжелым и стойким запахом английского табака.
«Вот три брата, — думал иногда Павлик: — отец, мастер и дядя Трофим, а какие они разные! Отчего это?»
Мастер показал ему как-то карточку:
— Вот твой дед и бабка.
У отца этой фотографии не было. Павлик долго рассматривал карточку: обыкновенный, тихий, наверно, работящий старичок, обыкновенная сухонькая и морщинистая старушка. И все же и в трех братьях было что-то общее. Было что-то общее, хотя разные это люди: большевик Василий Павлович, мастер Абрам Павлович и пьяница Трофим Павлович.
— Горячая у нас порода! — сказал как-то дядя Абрам, и гордость звучала в его голосе.
Однажды они с Павликом пришли домой и застали дядю Трофима, торговавшегося с рабочим, принесшим проволоку.
— А ну, покажь! — властно потребовал мастер и взял большой моток проволоки из рук смутившегося рабочего. — Ворованное? — тихо спросил мастер. — Завод растаскиваете? — И закричал: — Чтоб не было этого в моем доме!
— Все крадут! — пробурчал Трофим.
Это была правда: тащили с завода всё — проволоку, инструмент, лом, топливо, даже механизмы.
— Ну и народ! — ругался мастер. — Разве с нашим народом дело выйдет? Палка нашему народу нужна.
Но Павлик думал иначе. Он сам видел: люди отказались от получки, чтобы пустить домну. Люди не уходили с печи и сейчас, хотя начались лютые морозы и руки примерзали к инструменту. Люди молча и дружно работали, хотя дома было и голодно и холодно, а в селах старухи шили белые рубахи, ожидая конца света.
«Что же это за люди, — думал Павлик, — которые вот воруют проволоку и вот отказываются от получки?»
Угля и дров завод не дал в эту зиму рабочим. В поселке исчезли заборы, скамейки, деревянные беседки: все пошло в огонь.
Однажды пронеслась на домне весть: пришло на завод много топлива. После работы рабочие собрались в толпу. Потребовали директора. Он пришел небритый и усталый, охрипший от этих постоянных митингов.
— Ну? — спросил он глухо.
— Уголь! — закричали рабочие. — Уголь даешь!
Мастер Абрам Павлович замахал на них руками:
— Не все! Не все! От народ! — И объяснил директору обстоятельно и деликатно: — Пронесся слушок, Дмитрий Иванович, правда, нет — не знаем, но был тут слушок такой, я тем слухом пользовался: прибыло будто много вагонов угля. Вот народу желательно знать, как с этим углем дело, кому давать будут, когда и что?
— Прибыл уголь, — ответил хрипло директор и схватился за больное горло. — Прибыл уголь. Для кочегарки.
— А нам? — зашумели рабочие.
— Ну, сами решайте, — пожал плечами Загоруйко: — заводу или вам?
Ломкий, хрусткий снежок падал наземь. Павлик кутался в дядькин овчинный полушубок: рукава большие — хорошо! Павлик хлопал ногой об ногу, прыгал, ботинки совсем изодрались, валенок нет.
— Заводу! — ответили рабочие и разошлись.
Валенок так и не добыл Павлик. Он старался теперь не отходить от горна: тут было тепло.
Он похудел, волосы его выгорели. От прежней детской мягкости и застенчивой округлости в Павлике ничего не осталось. Теперь это был худощавый, угловатый рабочий-подросток. У него завязалась дружба с товарищами по работе. Иногда он ходил с ними вечером по поселку, крича песни и пугая старушек. Однажды ребята угостили Павлика самогоном. Он долго отказывался, но, пристыженный, выпил. Не желая в таком виде встречаться с дядькой, он пошел домой. На беду мастер пришел туда же. Он сразу учуял самогонный дух.
— А ну! — грозно закричал он на племянника. — А ну! Какое у тебя веселье? — Смущенный Павлик стоял перед мастером, опустив по швам руки. — Ну, кто ты такой, чтоб пить? — кричал мастер. — Откуда у тебя право, чтоб пить? Мастер ты? Или слесарь? Или токарь? Ты сперва делу выучись, а потом пей на свои деньги.
Больше всего любил Павлик водить дружбу со взрослыми рабочими. Он слушал их отрывистые рассказы о давно минувшем, о замечательных слесарях или кровопийцах-мастерах или о том, как вывозили немца-директора на тачке.
— Вот так-то! — заканчивали старики свои рассказы, и Павлик уходил хмельной: замечательные эти дела шумели у него в голове.
Дядя Баглий взял его как-то к себе домой. У старика была маленькая хатка-мазанка на краю поселка, около реки.
— Вот мои хоромы, — сказал он Павлику, когда они пришли. — Вот мои хоромы, сынок! — В его голосе насмешки не было, только гордость хозяина.
Они вошли. Босоногая девочка лет четырнадцати встретила их.
— Дочка моя! — торжественно сказал старик, и лицо его вдруг стало светлее и даже круглее; теперь он не казался таким худым. — Старшенькая, Галя…
Девочка была в длинной юбке и в какой-то старомодной кофточке.
«Наверно, материна кофта!» — догадался Павлик.
Он стал часто ходить сюда. Сидел молча, смотрел, как работает Галя: стирает или шьет. Она делала это быстро и деловито, в ней была какая-то старушечья озабоченность.