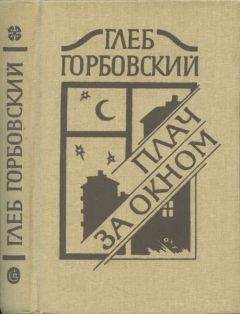— И дня бы не продержались в новом качестве. Хотите пари? Потому что человек остается самим собой даже… в гробу, — уточнил Суржиков.
А у меня вырвалось:
— Душу бы заложил за возможность вернуться!
— Как же вы без души-то с людьми собираетесь жить? На одном мясе, что ли?
— Не так выразился. Да и кто отпустит?
— Хотите, замолвлю за вас словечко?
— Пред кем это замолвите?
— А там, на развилке… Есть же там кто-нибудь главный? Который распределяет? Попрошу. У меня — опыт с официальными людьми общий язык находить. Исключение сделают. Ведь поставили ж меня к стенке. Что ни говори, а исключительная мера. Не всякому выпадает. Взгляните, господа, на этого чистюлю в пенсне, он все еще моет руки под дождем. Он думает, что они у него в чужой, посторонней крови, тогда как это и его собственная кровь. Он себе кожу протер, смыл ее на ладонях до мяса. А того, дилетант, не знает, что чужой крови нет. Есть кровь человеческая, общелюдская. Сосуды-то сообщаются.
В момент, когда мы прилежно и совершенно бессмысленно обходили стороной дождь, невдалеке от себя увидел я человека, на которого указывал нам Суржиков. Бритая голова на чистюле металлически блестела; мягкий, сдобный нос цепко перехватывался зажимом пенсне, под их стеклами угадывались глаза, наглухо зашторенные дряблыми, коричневого отлива веками. Под носом — словно запачкано: черным пятном зияли деловитые, бюрократические усики — резкие и на лице как бы не обязательные, случайные. Одет он был в темно-синий суконный френч с накладными карманами, ниже — той же расцветки диагоналевые галифе. И — сияющего хрома сапоги с высокими голенищами.
Наконец чистюля вышел из-под дождя, достал из кармана галифе несвежий, мятый платок и принялся тщательно вытирать сочащиеся кровью ладони. И тут, рассекая неповоротливую, местами завихряющуюся, тягучую толпу, словно литой чугунный утюг, разглаживающий кружева, мерным шагом прошествовала шеренга ложных слепцов. В отличие от слепцов настоящих, которые на ходьбе держатся прямо, обратив лица вперед и чуточку ввысь, имитаторы тащились, понурив головы и наверняка подсматривая за дорогой в черные щели потрескавшихся, словно обуглившихся век.
Один из этой колонны понуро марширующих представителей тьмы привлек наше внимание тем, что как-то уж очень был похож на чистюлю, ну просто двойник. Мы даже глазам своим не поверили: такое устрашающее сходство! Но, приглядевшись, уловили и некоторую разницу между ними. Так, на голове марширующего имелось немного коротко остриженных волос, тогда как у нашего шизика голова была совершенно голая. Зато уж пенсне, усики, цвет лица, понурость, френч, галифе — все у них было общее, словно взятое на прокат в одной и той же конторе. Разве что френч у человека из колонны был посветлее, серо-зеленого немецкого сукна и руки он периодически не о платок вытирал, а прямо о штаны, а то и о спины впередиидущих собратьев.
Перебелив на пишущей машинке очередную тетрадь с записками Мценского, я почему-то приуныл; моих намерений коснулось разочарование, я впервые почувствовал, что испытываю к методу доктора Чичко холодок настороженности: никаких бесхитростных «записок пациента» не было в помине. Вместо них подавалось самодеятельное сочинительство. Викентий Мценский, оказывается, грешил писаниной, производил впечатление. Уж не графоман ли очередной?
Поразмыслив, я успокоился. Пациент сочиняет. Фантазирует. А что здесь такого? Пусть воображает. Вот если бы он, пациент, то есть человек с надломленной психикой, заговорил неожиданно трезво, расчетливо, описал какой-либо производственный процесс или конфликт, — тогда и впрямь было бы чему удивляться. И наоборот: сколько раз, с трудом осилив, а то и не дочитав до половины книгу того или иного автора, говорили мы: бред сумасшедшего!
Нет, я все-таки с большим удовлетворением и с каким-то даже несвойственным мне восторгом присоединяю к запискам Мценского свои размышления об этом человеке. Лично меня в его записках прежде всего поразило и увлекло намерение вернуться в жизнь другим человеком, существом, обнаружившим у себя душу, заслышавшим музыку вечного бытия. Наблюдать за таким возвращением не только интересно, но и поучительно. Что я и делаю.
Тот первый послебольничный день Мценского оказался невероятно длинным, вместительным. Случаются в череде дней такие вот многозначительные, объемистые дни. И не дни, а как бы карликовые эпохи, своеобразные концентраты времени, сгустки всевозможных событий, состояний, информации, ощущений и прочих впечатлений.
Неординарность дня сказывалась для Мценского буквально с первых лучей солнца, проникшего в больничную палату. Под действием этих лучей Викентий Валентинович открыл глаза и увидел пламенные язычки тюльпанов, склонившиеся к его лицу с тумбочки: кто-то принес букет, поместив его в бутылку из-под кефира.
Поначалу цветы обрадовали, потом испугали: а вдруг не ему? Когда выяснилось, что ему, — озадачили: кто принес, почему? Не подвох ли, не безжалостная ли насмешка? Никогда в жизни цветов ему не дарили. Не бывало такого случая.
И здесь я позволю себе отклониться от изложения событий, чтобы внести некоторую ясность в «скрытный» характер заболевания Мценского: известно, что психике, отравленной алкоголем, чаще сопутствует так называемый бред ревности. Крупицы (или остатки) этого бреда коснулись конечно же и Викентия Валентиновича. Однако не они окрашивали картину. В глаза бросалась непомерная бытовая мнительность Мценского. Еще не мания преследования, но уже и не просто подозрительность. И вдруг — эти цветы…
На вопрос Мценского — кто передал? — медсестра, сдававшая ночное дежурство, нехотя улыбнулась:
— Прорвался тут один… Молодой, симпатичный. В первом часу ночи. Хотела уже в милицию звонить, потом вижу: трезвый солдатик. И военный орден на груди, красная такая звездочка. Неужто, соображаю, зазноба у него тут лечится? А молодой человек вас назвал. И все отворачивается от меня. Стеснительный еще. Передайте, говорит, эти цветы Викентию Валентиновичу Мценскому. Ну, я их и водрузила.
— Вот что… Возьмите их себе. В знак благодарности. Я нынче выписываюсь.
Так вот и начался этот день. С цветов и робких улыбок. С мучительных размышлений: кому понадобилось шутить над ним столь необычным способом — при помощи цветов?
Потом — комиссия, выписка, напутственное слово доктора Чичко. Геннадий Авдеевич, перед тем, как распрощаться с пациентом, залучил его в свой кабинет, усадил на белую табуретку.
Обстановочка в кабинете казенная, жалкая. Маленький, какой-то несерьезный, ученический стол, покрытый обыкновенной простыней, клейменной больничными штемпелями, белый лежак с облупившейся местами краской и, словно уголок с отслужившими свое игрушками, закуток с молчащей, беспомощной аппаратурой. Было что-то детски наивное как в облике кабинета, так и в облике его хозяина, в слезящихся от постоянной бессонницы и многотрудного чтения глазах доктора, в мягких формах его округлого, «недемонического» лица, в добродушной, исполненной осознанного покоя улыбке, постоянно сквозящей на подвижных, хотя и тяжелых, работящих губах, старавшихся во время разговора изо всех сил.
— Присаживайтесь, Викентий Валентинович. Чаю хотите? Видите, я тоже волнуюсь. Сейчас вы уйдете… туда. А я останусь. Здесь. Поздравляю.
— Спасибо. Если не шутите.
— Я прочел ваши записи. Хотите откровенно? Так вот… постарайтесь об этом не забывать.
— О чем?
— О пережитом. Любой другой врач на моем месте посоветовал бы вам обратное — забыть, отрешиться, вычеркнуть из памяти, поскорее начать новую жизнь. А я говорю: не забывайте! Ибо это и есть ваша новая жизнь. Нет, я не о видениях, которые промелькнули в вашем мозгу, я о впечатлениях и последствиях. Пить вы больше не будете. И знаете почему? Потому, что вы… интересный человек. Потому что ваш интеллект, побывав на краю пропасти, не только устоял, но и как бы переродился. Предгибельное состояние вашего мозга, как это ни парадоксально, послужило психологическим трамплином, и вы как бы перепрыгнули за грань, а перемахнув, обрели веру. Разве я ошибаюсь? Я ведь заодно с вами страдал.
— Спасибо, Геннадий Авдеевич. Вы не можете ошибиться. Потому что вы добрый.
— Добрый? Иванушка-дурачок тоже добрый. Кстати, о записках. Они весьма забавны. В них есть определенный смысл. Но они конечно же литературны. То есть подверглись дальнейшей обработке. Их первичность заслонена… Но я в них проник. У меня — опыт. Ваша тревога мне близка. Любовь к жизни и одновременно — неприятие ее образа, форм, сложившейся модели. Поиск истины. Пусть — запредельной. Хорошая тревога. Хотя, повторюсь, слишком уж красиво у вас… Шествие одержимых. Конечно, не Америку открыли, зато уж сказано без запинки. Внятно сказано. А знаете, почему ваша женщина в толпе одержимых выглядит этакой розовой вороной?