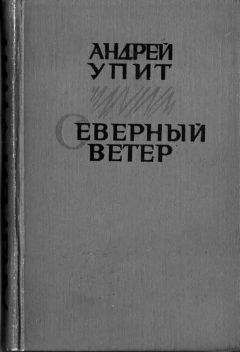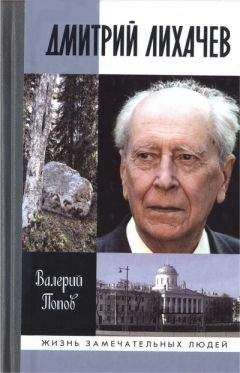Вытянувшись, кобыла шагала вверх по крутой каменистой, размытой весенними водами ложбине, вдоль обсаженного живой изгородью сада. Две старых яблони так широко раскинулись, что пришлось нагнуть голову, чтобы зацветавшие ветви не сорвали картуз. От старого хлева на самом краю горы ветер доносил сильный едкий запах, который щекотал в носу, а глаза раздражал до слез.
В саду через листву деревьев виднелся серый угол жилого дома с черным окном, где жил испольщик Осис.
2
Хозяйка Бривиней Лизбете стукнула еще разок бердом, положила челнок на темное суконное полотнище и размяла затекшие руки; порылась пальцем в стоящей на окне корзиночке — в ней еще лежали три или четыре цевки. Но мотальщица Тале, дочь Осиса, куда-то запропастилась, мотовило с мотком шерстяной пряжи и прялка бездействовали, а в веретене осталась до половины намотанная цевка. Хозяйка сокрушенно покачала головой.
Она поднялась со стула, сердито согнала мух и обошла станок — посмотреть, много ли осталось на навое. Из-за станка пришлось отодвинуть людской стол к самым дверям, где даже днем было темновато. На будущей неделе непременно нужно окончить тканье — надоела стукотня, да и повернуться негде.
Хотя двери в кухню отворены, в комнате жарко. Перед обедом пекли хлеб, и из устья печи, казалось, еще струились чад и жар. На лежанке, откинув голову и вытянув все четыре лапы, развалилась томная и разомлевшая кошка Минце. Лизбете пощекотала ей белую шейку:
— Чего тебе здесь париться, разве плохо на солнышке?
Кошка притворилась спящей и, не открывая глаз, повела кончиком ушка. В заднем углу заскрипела кровать, хозяйка вздрогнула и оглянулась.
Старый хозяин Бривиней, Ян Ванаг, лежал вытянувшись на спине, под двумя одеялами и шубой, очертания его большого тела едва обозначились под ворохом одежды; синие ноги высунулись наружу и скребли спинку кровати, — верный признак, что сейчас начнется кашель.
Плечи и могучая голова приподняты двумя набитыми сеном подушками. Дыхание вырывалось из полуоткрытого рта с глухим свистом; из-под землисто-серой кожи острыми углами выпирали скулы; глаза в темных впадинах плотно сомкнуты. Поверх одеял виднелась только длинная седая борода и страшные худые руки с синими жилами и узловатыми, скрюченными, как у мертвеца, пальцами.
И в самом деле, дыхание вырывалось все громче, старик начал глухо кашлять, тяжело дыша, с трудом вбирая и выдыхая воздух, захлебываясь. Одеяла на груди вздрагивали, точно под ними билось заживо погребенное животное, руки вскидывались вверх. Глаза не открылись, но голова повернулась в сторону, — со стоном, задыхаясь, он сплюнул; по глиняному полу, до самой прялки и Талиной табуретки, протянулся омерзительный плевок.
Лизбете стояла откинув голову, сощурив глаза, стиснув зубы, крепко сжав под передником руки. Точно застыла, остолбенела, не в силах пошевелиться, хотя тошнота подступала к горлу. Третий год, третий уж год тянутся эти страшные муки — и все нет конца, все не помирает… Под рождество думали, вот-вот конец. Ждали весенней распутицы, надеялись, что больше не выдержит — и ничего. Одна кожа да кости, а какая богатырская живучесть, словно зубами вцепился.
Когда старик кончил харкать и трястись, она вздрогнула и вышла в свою комнату, на хозяйскую половину.
Комнатка маленькая, с оштукатуренными, некогда выбеленными стенами; неструганый дощатый потолок и потолочная балка тоже когда-то были побелены. У хозяев кровать широкая, как баржа. Кровать для Лауры сделана столяром Конном из имения, — полированная, ясеневого дерева; на ней две пуховые подушки и домотканое одеяло с зелеными гарусными полосками. Над кроватью гвоздиками и пробковыми кружками прибита засиженная мухами картинка: Скобелев на белом коне, с высоко занесенной саблей; русские солдаты штыками и бомбами гонят бегущих турок. Над ложем стариков — засохший дубовый венок с прошлогоднего Янова дня и двустволка хозяина; у изголовья на стене подвешен коричневый шкафчик, под ним стул, на котором можно сидеть только низко наклонив голову. Столик у кровати накрыт льняной скатеркой, на нем растрепанная книга «Графиня Женевьева».[19] Старый разросшийся мирт заслонил все четыре окна, и только сверху можно было видеть, как Лаура возится в своем цветнике.
Хозяйка только было собралась открыть шкафчик, как во дворе загремели колеса — должно быть, вернулся хозяин. Лизбете вошла через людскую в кухню, где на огромном очаге еще тлел жар, а над ним, на железном крюке, висел котел. Добела оттертые песком подойники и два ведра с водой стояли в ряд на скамье. Лагуны для корма скотины и ушаты, из которых поили телят, издавали кислый запах. Черпак брошен на самой дороге, Лизбете отпихнула его ногой. Верхняя часть двустворчатых дверей отворена, чтобы вытягивало пар и чад; мимо нее только что промелькнула голова Машки и резная коричневая русская дуга. Лизбете толчком отворила нижнюю часть дверей и переступила порог.
Посреди двора стояла Осиене и, прикрыв ладонью глаза, разглядывала что-то за бривиньскими парами, где на горе, возле дуба, паслась скотина Озолиня. Да так увлеклась, что и не услыхала, как на двор въехал хозяин, испугалась и вскрикнула, когда кобыла толкнула ее мордой в спину.
— Что ты там так разглядываешь? — посмеялся Ванаг. — Или опять на дубу аисты дерутся?
Осиене смутилась, а не просто испугалась; на скулах выступили красные пятна; она старалась улыбнуться, полуоткрытые губы обнажили черную щель — не хватало двух передних зубов.
— Нет, — начала она, заикаясь, — скотина Озолиня опять на парах… Я смотрела… пасет ли там Анна…
— Ну и дела, — сказал Бривинь, вылезая из телеги. — Хозяин нанимает батрачку, и в самую горячую пору ее посылают пасти скотину. Разве у нее палец еще не зажил?
— Нет! Сперва нарыв был, а теперь вроде костоеда, это так скоро не заживет.
За огородом сажали картофель, Мартынь Упит и Галынь запахивали. В конце борозды Галынь воткнул соху в землю и побежал принять хозяйскую лошадь. Ванаг увидел в дверях Лизбете, позвал помочь внести покупки. Хозяйка взяла с телеги сверток, сам он достал из-под сиденья дубленые овчины и старые сапоги.
— Телегу закати под навес, — приказал он Галыню и притронулся к белому кулю. — Это пусть останется, его мы потом с Мартынем вытащим. Машку спутай и оставь у дороги, пусть объест траву под деревьями.
Только в людской он сообразил, что овчины нужно было сразу отнести в клеть: от них так пахло кислятиной, что в горле першило. Бросил их на скамейку у стола, старые сапоги сунул под кровать. Лизбете развязала узел на кровати Лауры и стала разбирать покупки. Там была связка кренделей для батрачек и пастуха, две ковриги шафранного хлеба с изюмом — это хозяйке и Лауре, довольно большой кусок сахарной головы и фунт табаку для самого хозяина, — Ванаг бросил его тоже под кровать. Хозяйка вертела в руках пару постолов.
— Мартыню, — сказал Бривинь. — При найме уговора не было, но очень уж он на посеве старался.
— Ну и что ж, не в четыре же руки работал, — заметила Лизбете, по больше так, для порядка. Слишком скупой она не была и к старшему батраку благоволила.
В передней комнате старик снова заскрипел кроватью и порывисто задышал. Лизбете притворила дверь — не для того, чтобы больной не услышал, он был почти глух; она нахмурилась и вся сморщилась, словно каждый приступ его кашля отдавался у нее внутри.
— Все по-прежнему бухает? — спросил Ванаг, роясь в шкафчике.
— Терпенья больше нет! — пожаловалась хозяйка. — Харкает и плюется, как скотина. Комната стала хуже свинарника. Умер бы поскорее, все равно не жилец.
— Ну, долго уже не проскрипит, — сказал Ванаг, подняв на свет против окна бутылку со спиртом, чтобы посмотреть, сколько в ней. Оказалась полна. — Только дышать и может.
— Это еще неизвестно, сколько он проскрипит. Что ты думаешь, сегодня еще сам на двор выбрался. Обратно до кровати все же не смог дотащиться, Анне пришлось взять под руки. Нужно было сделать, как я говорила: на лето — в клеть, а девушек пустить в комнату.
— Ну, у тебя совсем нет соображения! В клеть! Что тогда люди станут говорить? «Бривини старику отцу даже помереть не дадут спокойно, в теплой комнате».
Лизбете тяжко вздохнула.
— Да, верно.
Когда старый Бривинь снова начал харкать и плевать, в щель кухонной двери просунулся растрепанный клок сильно выгоревших волос, из-под которого виднелись острый птичий носик, большой рот с двумя выступающими над ниши ей губой зубами и несоразмерно маленький, даже для семилетней девочки, подбородок. Скользя, как ласка, в комнату прокралась дочка Осиене в заплатанном бумазейном платьишке, в «сапогах» из черной грязи, с голыми потрескавшимися коленками. Не сводя глаз с хозяйской двери, она прошмыгнула на цыпочках мимо ткацкого станка, оттащила табуретку и прялку чуть подальше, — ей казалось, что старик нарочно старается угодить в нее плевками, — примостилась на самом краешке табуретки, иначе ноги не дотягивались до пола. Подножка застучала, веретено начало порхать.