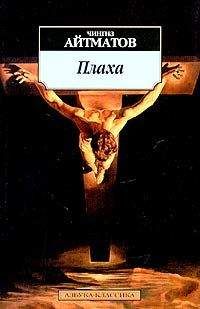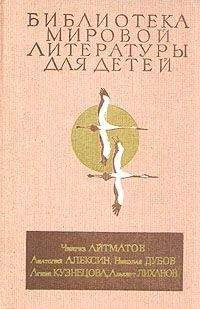– Да я уж своего попробую, – отказался Авдий, – вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.
– Тоже верно, – согласился Петруха, – свое есть свое. – Помолчал и решил высказаться дальше: – В нашем деле, Авдяй, главное – осторожность, потому как все вокруг наши враги: каждая бабка, каждый ветеран с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рассовали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А потому правило у нас такое – веди себя вроде ты никто, неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А потом знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все к такой-то матери… А если что, Авдясь, умри-подохни, но своих нe выдавать. Это закон. А не выдержишь, так и так – хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне, а все равно достанут. Это тебе не шуточки-игрушечки…
Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строительствах разных работал, а как лето наступало, отправлялся в примоюнкумские края, знал места, богатые анашой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам, завались, хоть на весь мир хватит. Дома у него только мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто куда, в Заполярье, на газопровод. Зашибают, как выразился, бедолаги, деньгу то в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию-косоглазию, и хоть весь год живи поплевывай себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Леньки дела семейные обстояли еще хуже. Матери не знал. Определен был в Дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания, что главным образом на Кубу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем правилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капитана укатила с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан запил, перешел на портовые работы. Ленька учился в школе кое-как, жил то у тетки капитана, то у брата его, бухгалтера, а у того жена – цербер, и так и пошло все одно к одному, и отбился малый от рук, остервенел. Ушел от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влияния на Леньку не имевшего. Парень жил как хотел. Захотелось куда-то закатиться – закатился. Захотелось вернуться – объявился. И вот уже второй сезон Ленька отправлялся гонцом за анашой, да и сам, похоже, пристрастился к этому зелью дурному, а ведь ему всего шестнадцать лет, и впереди вся жизнь…
Авдию Каллистратову стоило немалой выдержки не реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он поставил себе задачу – постичь природу этих явлений, затягивающих в свои тенета все новых и новых молодых людей. И чем больше вникал он в эти печальные истории, тем больше убеждался, что все это напоминало некое подводное течение при обманчивом спокойствии поверхности житейского моря и что, помимо частных и личных причин, порождающих склонность к пороку, существуют общественные причины, допускающие возможность возникновения этого рода болезней молодежи. Причины эти на первый взгляд было трудно уловить – они напоминали сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят болезнь по всему организму. Сколько ни вдавайся в эти причины на личном уровне, толку от этого мало, если не вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум написать целый социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию – в печати и на телевидении. Вон он чего захотел, ну точно пришелец… А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится: никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это всегда соображениями якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишний раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Каллистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь, только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей, и не нравоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение и что в этом смысле каждому из них предстоит совершить революцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснодушные идеи.
Молод был. Разве что только молод был… А ведь как изучал в семинарии историю Христа – переносил Его муки на себя в такой степени, что плакал навзрыд, когда прочел, как в Гефсиманском саду Его предал Иуда! О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день, на той горе на Лысой. Но не подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если существует на свете закономерность, согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом – цена такой победы?
Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. А разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарией.
– Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж больно хорошее, – размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. – Ты уйдешь из семинарии, а скорей всего тебя отлучат от церкви, я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их, бросив им вызов… Тем более, что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви – не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным, нет, отец отрок, церковь перед тобой ни в чем не виновата… Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям.
– Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет, это было бы слишком просто – обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований – фигуру Бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода.
– Понимаю, понимаю! – снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал: – Звучит все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру. Ух как люто расправилась бы инквизиция с нами, с каким удовольствием! Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать…
– Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить, – усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинаристского сюртука. – Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше время существовала инквизиция и если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова.
– Верю, – согласно кивнул Городецкий.
– Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую, современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти…
– Это хорошо, что ты упомянул об истории, – прервал его Городецкий. – Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге – это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это заманчиво и убедительно ни выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Эта уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, раскаяние и надежда, кара и милость – и человеколюбие. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнeе, что могущественней и притягательней, что ближе – Бог-мученик, который пошел на плаху, на крестную муку ради идеи, или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал.