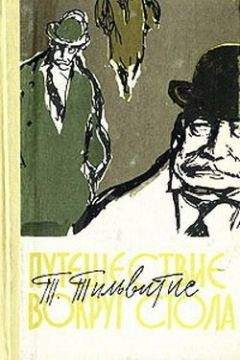— Иди сюда. Тут внизу, за метками, яма.
— Ой, сколько же вас?
— Не бойся. Нас двое.
— Вы криничанские?
— Нет, мы из Кременчуга.
— А взрыв — это…
— Тсс… Много знать будешь, скоро состаришься.
Шаги приближались, потом затихли. Тянулись долгие невыносимые минуты. Никакого движения поблизости. Наконец за стенкой послышался голос. Мать — узнала Таня.
Таня радостно вскочила на ноги, но чья-то сильная рука придавила ее обратно и зажала рот.
Шаги отдалялись. Наконец ее отпустили.
— Это же моя мать! Она сторожует здесь! А вы… — зашептала Таня.
— Да это она нас сюда и впустила.
Таня выскочила из-за мешков, пробралась к выходу. На улице уже было совсем темно. Наверное, облавники уехали, они не любят оставаться на ночь в селах.
— Эй вы там! Сидите тихо. Я мать пришлю за вами. Погляжу, что там делается.
…Каганец с плавающим в масле фитильком тревожно мерцает зыбким трескучим пламенем и едва разгоняет вокруг себя тьму. Окна в избе плотно занавешены, в печи горячо вспыхивают снопы соломы. Теплый пахучий дух хлеба наполняет выстуженную хату.
Таня чистит картошку и кидает ее в горшок, ставит в печь сковороду с нарезанным луком и маленькими кусочками сала. Все время прислушивается к звукам во дворе. Наконец доносится легкое шуршание снега, скрип двери в сенях. Таня подбежала к входной двери, подняла повешенное для тепла рядно, чтобы оно не мешало людям, переступившим порог.
— Вот мы и дома, проходите, проходите… Мы вдвоем с дочерью живем. А снег какой повалил — свету не видно. — Мотря стряхивала с платка налипшие белые хлопья.
Наконец Таня увидела тех двоих. Высокий крутолобый мужчина, волевой подбородок, под нахмуренными бровями глубоко посаженные серые глаза. Большой хрящеватый нос и острый кадык делали его похожим на клювастую настороженную птицу. Красными негнущимися руками стянул с себя измятую шапку-ушанку и… Таня едва не вскрикнула — открыл свою стриженую, с еще розовым шрамом у виска голову.
— Меня зовут Сергей, — откашлялся глубоким мокрым кашлем. — А это мой товарищ — Толик.
Толик был маленьким, хилым, с настороженным взглядом светлых глаз и тоже стриженой головой.
— Поживите у нас немного, наберитесь сил да отогрейтесь, — доброжелательно сказала Мотря. — Они из концлагеря сбежали, Таня.
— А вы… не боитесь? За это — расстрел! — зябко вздрагивая, отозвался Толик.
— А! Теперь за все расстрел. Что уж там говорить! Раздевайтесь, грейтесь! — приглашала Таня. — Сейчас и ужин поспеет.
— Спасибо. Мне надо еще в ивняки… Пока темно да снег. Там наших еще несколько есть. Оставаться им надолго опасно. Может быть, ваши люди взяли бы их покамест?
— Батюшки! — всплеснула Матвеевна руками. — Почему же молчал? Я бы уже отправила туда кого-нибудь.
— Да, видите ли, мы вроде в разведку с Толиком… Так сказать, подготовить почву. Мы самые здоровые — вот и добрались к мельнице. А тут облава.
— Пойдем. Только, наверное, саночки надо взять с собой, да?
— И не одни, ежели уж так. К утру нужно управиться, пока снег падает. Заметет следы.
Мотря решительно повязала голову платком и пырнула в темноту сеней. За ней шастнул и Сергей.
С некоторых пор прохожие стали обращать внимание на то, что в хате Самойленчихи раздается частый стук и звяк, будто железом о железо бьют. Даже уши закладывает, когда близко подходишь. Как-то заглянула к Мотре любопытная Гуторка. И увидела, что у Самойленчихи завелись два каких-то наймита. Один большой, со шрамом на голове, другой поменьше. Сидят в углу на маленьких табуретах, перед ними — куценогая прочная скамья, на которой ровно нарезаны куски белой жести. Толстенными гвоздями они пробивают, сплошь решетят жесть — и тарахтение разносится по улице.
Старший, какой-то узловатый, остроглазый, все время ворчит на меньшего:
— И кто тебя воспитывал, интеллигентика эдакого, — попасть по головке гвоздя не способен. Все пальцы вон посбивал! Так мы никогда хозяйке не отработаем за хлеб!
— Что это они вам делают? — стрельнула в их сторону глазами Гуторка.
— А, это все мать! — Таня небрежно махнула рукой. — Вот сговорились с мастеровыми, чтоб терки делали. Говорит, на базаре ходовой товар.
— Конечно, конечно, — по-своему уразумела Гуторка. — Это такое дело, что людям в хозяйстве всегда нужно. А много они берут за работу?
— Спрашивайте вон у матери, — отговаривается сердито Таня. — Оно ей надо!..
— Да сейчас такое время, что все надо, дочка, ничего нигде не купишь.
Гуторка с тем и ушла, и уже под вечер все село знало, что это за стук слышен у Мотри Самойленчихи.
А в хате долго стоял хохот. Матвеевна даже за бока хваталась, даже слезы катились у нее из глаз. Ну и артисты, ну и придумали… Теперь в селе ей прохода не дадут — скажут, мироедкой стала наша Самойленчиха! Недаром с Гуторкой водится.
— Хватит уж смеяться, — она вытерла наконец лицо ладонью. — Будем обедать, пока борщ не перестоял. Потому что есть перестоявший борщ — все равно что парню на старой девке жениться. — Мотря открыла заслонку и шастнула в печку ухватом.
Вскоре в хате воцарился дух борща. Таня разливала его черпаком в миски и носила на стол. Сергей и Толик, поливая один другому на руки из глиняной кружки, восхищались, как пахнет этот невероятный борщ.
Веселый разговор и смех вдруг оборвались. У ворот остановились лошади, и кто-то пробежал через двор в сени. Затрепыхалось рядно над входной дверью — из-за порога вполз по полу белый холодный пар. Наконец кто-то выпутался из рядна — разрумянившееся лицо, блестящие черные глаза под седой шапкой-молдаванкой. Кирилл! Таня так и застыла с миской борща в