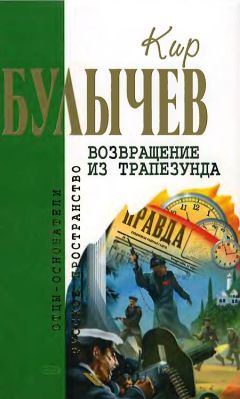— И деток у меня тоже нет, — ответил Матийцев уже спокойнее.
— Ну, тогда дайте ему грушу!
— Дай! — требовательно сказал Дима.
Матийцев оглянулся кругом, заметил, что несколько сзади его расположился покушать какой-то бородатый загорелый степняк в чоботах, и кивнул туда головой:
— Вон там что-то едят — туда идите!
Бросив на него негодующий взгляд, мамаша увела сыночка, но это был только первый ее приступ.
Минут через десять она опять подошла, таща Диму за ручонку, и сразу, с подхода:
— Вот скажите же вы этому скверному мальчишке, что в этом самом вагоне водятся волки!
— Зачем же я буду говорить ему такую чепуху? — кротко спросил Матийцев.
— А затем вы должны ему это сказать, чтобы он когда-нибудь испугался! — выпалила без передышки мамаша.
— Гм… да… Вы обратитесь к кому-нибудь другому, — посоветовал ей Матийцев.
Опять уничтожающе-гневный взгляд выпуклых черных глаз, и опять утащила она своего Диму, и уже где-то дальше в вагоне, — слышал Матийцев, — она приказывалала кому-то:
— Отворите же вы, пожалуйста, окошко, а то Димочке очень душно, и он себе сейчас в обморок упадет, — и что я тогда с ним должна делать, ну-у?
А еще через пять минут Матийцев слышал уже другое:
— Ох, затворите, пожалуйста, я вас прошу, окошко, а то я боюсь, что Димочку продует, и что я тогда с ним буду делать, а-а?
На каждой остановке поезда, хотя бы на две минуты, она выскакивала из вагона, только успев сказать всем и никому:
— Ну, посмотрите же вы за моим Димочкой, чтобы он чего-нибудь не наделал!.. Дайте ему что-нибудь, он будет себе есть! — И исчезала.
И однажды Матийцев на одной такой остановке поезда услышал в открытое окно ее крикливый голос:
— Ну, вы уж наверное мой земляк из Новой Маячки, а-а? Скажете, нет? Ну, я-таки вас очень даже хорошо зна-аю!
И увидел, как тот, кого она атаковала, отмахиваясь рукой, уходил от нее поспешно.
Потом она, растрепанная, вбежала в вагон с криком:
— А где мой Димочка, а-а? Он ничего тут не нашкодил?
И, поймав Димочку, начала его убеждать:
— Видела я волков, видела! Они сидят себе вот тут рядом в другом, в желтом вагоне!.. Они тебя-таки съедят, — ты тогда вспомнишь, скверный мальчишка, что я тебе правду говорю!
А тот степенный степняк в чоботах не спеша продолжал что-то такое жевать и говорил, обращаясь к пожилой женщине в выцветшем, когда-то малиновом платочке, сидевшей против него:
— Зве-ерь, он все решительно про себя знает!.. Хотя бы, скажем, лису возьми… В какое время она нахально себя вести начинает, так что даже за курями готова середь дня в хату влезть?.. Тогда у ней нахальство такое, когда линять станет, — вот когда! Шерсть если из нее клочьями лезет, кому она тогда нужна? А мясо… Мясо лисиное не то что человек, и сатана есть не схочет, как оно вонючее. Вот она и смелеет тогда, эта лиса!
А женщина в линялом платочке, тоже загорелая по-степному, соглашалась и говорила о своей телке:
— Истинно, все понимает… Вот телка у меня, до того настырная: давай да давай ей жрать… И что же ты думаешь? Купила ей сена люцерного воз: жри! Она же побуровит-побуровит тое сено люцерное своей башкой, да под ноги его скинет все, да ногами своими затопчет, а сама мне: «Му-у-у!» Ты что это, дескать, мне такое дала?.. Вот поди же, шо сь такое она в нем нашла, в этом сене люцерном, что ей не пользу должно произвесть, а чистый, выходит, вред!
— Може оно обрызгано чем, если садовое? — пытался догадаться степняк. — Бывает, деревья попрыскають, а на траву, своим чередом, попадет яд какой, — вот телка твоя его, яд этот самый, и чует…
Против Матийцева сидел кто-то, спустивший на глаза козырек кепки, как будто отдавшись дреме, но, примерно через полчаса после того, как сел Матийцев, он сдвинул кепку со лба и очень внимательно пригляделся к новому здесь для него человеку, так внимательно, что Матийцеву стало, наконец, неловко и он спросил:
— Вздремнуть изволили?
Спросил, чтобы что-нибудь сказать, но увидел, как сразу оживилось заспанное лицо и как уперлись в него оловянные, мутные еще глаза.
«Кажется, немец, колонист», — подумал о нем Матийцев и только что успел это подумать, как услышал:
— Вы говорите по-немецки?
Матийцев невольно улыбнулся тому, что этот немец принял его спросонья тоже за немца. В гимназии он учился немецкому языку, мог читать немецкие книги (конечно, с помощью словаря), мог понимать немецкую живую речь, но с трудом составлял немецкие фразы. Поэтому, как ни захотелось было ему вдруг прикинуться шутки ради немцем, сказал:
— Нет, — ни бельмеса не смыслю.
— Это очень неприятно, хотя… Я могу, конечно, говорить и по-русски… Я — изобретатель, как это называют по-русски. Я такой аппарат изобрел для мельчения овощей, фруктов, тому подобное… И сам министр руку мне жал, и от него я серебряную медаль получил, — как же!.. И граф Келлер заказал мне четыре аппарата сделать!
«Не сумасшедший ли этот немец?» — подумал Матийцев, но, приглядевшись к худощавому, гладко выбритому лицу, не больше как сорокалетнему, решил, что он только очень убежден в своих достоинствах.
Немец же сделал тут паузу, как бы ожидая, не закажет ли и этот случайный его спутник по вагону пятого аппарата для измельчения овощей и фруктов, раз четыре заказал не кто иной, как граф Келлер. Но Матийцев молчал, да кроме того, проходивший в это время по вагону кондуктор, весьма бравого вида и чрезвычайно краснолицый, внушал мамаше Димочки:
— Коротко и явственно вам говорю: не выскакивать на полустанках!
— Ну, а если мне нужно? — не сдавалась та.
Но кондуктор не удостоил ее длинной беседы; он только повторил выразительно:
— Коротко и явственно сказано! — и пошел дальше.
Когда прошел кондуктор, немец продолжал:
— Вам, может быть, это не так хорошо известно, что надобно пережевывать пищу семьсот двадцать раз?
«Явный сумасшедший!» — убежденно подумал Матийцев, но спросил как мог спокойнее:
— Я, должно быть, ослышался? Мне показалось, будто вы сказали «семьсот двадцать» раз?
— Да ведь я же специалист в этом деле, а не то что! Семьсот двадцать, да, и только таким образом, как говорится по-русски, пища может называться; она есть вполне пережевана вами!
— Это при полном отсутствии зубов, что ли? — попытался догадаться Матийцев.
— Нет, нет! Это нет!.. Это именно, именно вот в вашем возрасте, например!
И немец посмотрел на него строго и поднял указательный палец к своему жесткому подбородку. А потом торопливо добавил:
— Даже пиво, даже чай, — тому подобные жидкости, — тоже необходимо жевать!.. В чае тоже есть теин, — прочее тому подобное… А клетка мясная, она-а… она уж в животном, — бык, например, баран, — до высшей дошла своей интеллигенции… Вы понимаете, что я хочу сказать? Может быть, сказать по-немецки? Это — оч-чень важный положений!
— Ничего, все понятно, говорите по-русски, — отозвался на это Матийцев.
— Она — старая, — вот я что хочу вам сказать, а зачем питаться старым? Тогда как… клетка шпинат, например, спаржа, — она-а до такой интеллигенции не дошла! Она-а считается так: молодая клетка.
«А-а, это — вегетарианец!» — подумал Матийцев: немец же между тем продолжал:
— Яблоки, например, — масса железа, масса!.. Фосфаты. Но только… (Тут он опять посмотрел строго и поднял палец.) Только не чистить кожицу, нет!.. Сидят профессор Винтергальтер и наш, русский, за границей, в Лейпциге, в сквере… Наш, русский, чистит яблоко ножом, а профес-сор Винтергальтер трет его об рукав костюма… Трет, — ну, может, какая соринка, пылинка, — как это называется по-русски, — не знаю, как это вам объяснить лучше…
— Ничего, все понятно, — поощрил его Матийцев.
— И во-от только наш русский приготовился, — ам! — яблоко это в рот класть, — профессор Винтергальтер ему: «Бросьте! Бросьте, — говорит, — и это тоже!.. Самый лучший, питательный вы бросили, — кожицу, а это — дрянь! Бросьте, я вам говорю, и это!»
И немец при этом так увлекся, что сделал энергичный жест, как будто хотел выбить яблоко из рук Матийцева, державшего спокойно руки на коленях.
— Обо мне в русских газетах писали как о пионере, как бы сказать, в этом деле, в питании! — с важностью добавил он. — В немецких газетах тоже были заметки… В немецкие газеты я сам тоже посылаю свои корреспонденции о русский народ, русский ландшафт, — тому подобное… Пишут мне оттуда, из-за границы: «Давайте больше! Давайте чаще!..» Но-о, главное, жена не понимает (тут он сделал гримасу), что это — ра-бота тоже, а не то что… какие-нибудь шуточки… И все мне мешает, все мешает!.. Но-о, — будто спохватился он, что сказал лишнее, — вы не подумайте, ради бога, что я это серьезно насчет своей жены! Не-ет! Я это просто ради одной веселой шутки… дружеской…