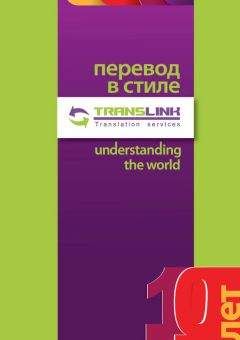— Это вам, — сказал он.
Она улыбнулась. Зубы у нее были белые, ровные.
— Спасибо, — сказала она, — вы очень внимательны. А теперь вы назовите мне свое имя.
Милая, чуть застенчивая улыбка не сходила с ее лица.
— Сейчас я Романо Гарсиа Росос, — сказал он.
— Сейчас? А вчера?
— Вчера, вернее, недели три назад я еще был Романом Ставровым.
— А меня зовут Елена Лелик, — сказала она. — Проще — Леся. Так, Лесей, меня звали отец и мать.
Роман опустил голову.
— Что вы? — участливо спросила она.
— Так, ничего, — сказал Роман. — А когда-то имя это значило для меня много…
— Так зовут вашу жену?
— Нет, Леся, так зовут мою новую родственницу.
— Вы любите ее?
— Любил…
— А сейчас?
— Любовь давно умерла… — сказал Роман и добавил с грустной усмешкой: — Вернее, я ее убил, эту любовь, в тот день, когда Еля стала женой брата Андрея.
— И давно произошло это убийство? — участливо спросила Леся. — А может, оно так и не произошло?
— Нет, — твердо сказал Роман, — все умерло. Четыре года назад. К тому же это было мальчишество, о котором я вспоминаю как об ушедшем детстве. В Елю был влюблен не только я, но и младший брат Федор. Словом, от нее потеряли голову все три брата…
— Она, должно быть, очень красива? — спросила Леся.
— Да, так нам казалось, — задумчиво сказал Роман. — Впрочем, она действительно красива…
За столом звенели бокалы. Голоса становились все более оживленными. Молодой рыжеватый поляк пытался затянуть песню…
Роман осторожно дотронулся до смуглой девичьей руки.
— Давайте погуляем, — сказал он просительно, — здесь очень душно. Только не сердитесь, пожалуйста, за эту просьбу.
По выражению его глаз Леся поняла, что Романа охватила та гнетущая тоска, какая бывает у человека, впервые покинувшего свою землю и оказавшегося на чужбине.
— Хорошо, — сказала Леся, — пойдемте. Судя по всему, сейчас я товарищам не нужна, все уже нашли общий язык и прекрасно друг друга понимают.
Они вышли, медленно спустились к набережной. Вечерело. Над морем, жалобно крича, носились чайки. Все вокруг казалось розовым: морская даль, косые крылья чаек, борта сгрудившихся в порту пароходов. Отовсюду несся устойчивый запах рыбы, водорослей, просмоленных канатов.
Увидев свободную скамью, Роман и Леся сели. Снова, как там, в пропахшем табачным дымом ресторане, Роман робко прикоснулся к руке девушки.
— Расскажите о себе, Лесенька, — попросил он.
Леся опустила голову. Черные волосы закрыли ее лицо. Руки неподвижно лежали на коленях.
— Что ж мне рассказывать? — Леся посмотрела на Романа. — Жили мы в Прикарпатье, в лесу. Отец работал лесником. На большой поляне у нас был деревянный домик, а рядом голубятня, много скворечников. К домику приходили разные зверюшки, слетались птицы. Отец с матерью всегда их кормили, и они были такими доверчивыми… У меня там маленький медвежонок был, я его в лесу нашла, когда шла в школу. Медведицу, видно, охотники убили, а он, бедняжка, сиротой остался, с голода совсем околевал. Я его приласкала, и он пошел за мной, как собака. Мы его Тапкой назвали…
Над темнеющим морем кричали чайки. Неподалеку от берега, оставляя за собой сверкающий тусклым серебром след, прошел пароход. Леся долго следила за ним, вслушиваясь в его низкие, протяжные гудки.
— Что же сталось с вашим медвежонком? — спросил Роман.
Черные ресницы девушки дрогнули.
— В ту пору в наших лесах бесчинствовали жандармы пана Пилсудского, проводили «пацификацию кресов» — так они называли кровавую расправу с теми крестьянами, которые осмеливались называть себя украинцами и белорусами. Мы с мамой не знали тогда, что отец уже несколько лет был связан с коммунистами и у него в дальней лесной караулке была установлена типографская машина, на которой подпольщики печатали свои воззвания и листовки… Однажды ночью жандармы ворвались в наш дом. Они искали отца, но товарищи его предупредили, и он спрятался в лесу. Пилсудчики перевернули все вверх дном, маму избили до полусмерти. Тапку, медвежонка моего, застрелили, а дом сожгли… Отцу угрожала смертная казнь.
Леся говорила, глядя в сторону, часто умолкая, словно прислушивалась к неумолчному морскому прибою.
— На следующую ночь мы разыскали отца, с помощью его друзей перешли чешскую границу, потом оказались в Мексике. Там отец работал на табачной плантации, а мать на пивоваренном заводе. Я окончила частный колледж, учила языки…
— А здесь вы давно? — спросил Роман.
— Второй месяц, — сказала Леся. — Президент Мексики генерал Лосаро Карденас сочувствует Испанской республике и всячески поддерживает республиканское правительство. Это и помогло мексиканским коммунистам направить меня в Испанию…
— Как же отец с матерью согласились отпустить вас? — спросил Роман. — Вам ведь, должно быть, лет семнадцать — не больше.
Леся улыбнулась:
— Восемнадцать. А потом…
— Что потом?
— Мой отец тоже здесь.
— Здесь? В Испании?
— Да, — сказала Леся. — Он комиссар интернационального батальона, воюет на центральном фронте.
— А мама?
— Мама осталась в Мексике. — Леся по-детски вздохнула. — Она очень хотела ехать с нами, но отец воспротивился… Так и не согласился.
Леся замолчала. Стало темнеть. Роман подумал о том, что девушка, которая сидит рядом с ним и которую он только сегодня впервые увидел, неожиданно стала для него бесконечно дорогой. Он сам не понимал, почему так случилось, то ли потому, что здесь, на чужбине, он почувствовал себя одиноким, то ли ее ласковая, немного грустная улыбка и выражение печали в странных зеленоватых глазах чем-то привлекли его, но он вдруг, сам страшась своего поступка, взял маленькую девичью руку, поцеловал и прижал к пылающей щеке.
3
Как было условлено, Максим Селищев и Петр Бармин, пробираясь из Франции в Испанию, доехали поездом до Байонны, а границу решили перейти пешком. После короткого отдыха они добрались автобусом до подножия поросших густым лесом гор, переночевали в неприметной деревушке, поблагодарили одинокого старика хозяина за ночлег, взяли свои заплечные мешки и медленно пошли по лесной тропе вверх. По их расчетам, до перевала, на который они поднимались, было километров тридцать.
Густой лес примыкал прямо к проложенной в чаще каменистой тропе, лишь изредка перемежаясь неширокими полянами. Высокие старые дубы смыкались над тропой могучими кронами, где-то рядом журчали невидимые ручьи. Подъем был крутой, трудный.
Выйдя на поляну, Максим остановился, вздохнул.
— Давай отдохнем, — сказал он. — Я весь мокрый.
Бармин с готовностью снял туго набитый мешок, налил из термоса горячего кофе, протянул крышку-стакан Максиму:
— Подкрепись, Максим Мартынович!
Оба они, выпив кофе, закурили, мешки подложили под головы и с наслаждением легли.
— Что ж, Петя, — сказал Максим, — вот пошли мы с тобою по новой тропе, а куда нас выведет эта тропа, никто не знает. Только ты, упаси бог, не думай, что я раскаиваюсь или жалею о чем-то… О чем мне жалеть? Вся моя жизнь прошла в скитаниях да в тоске.
Он приподнялся, опершись на локоть.
— И потом… Знаешь, о чем я сейчас думаю? Можно ли нам до конца верить этому болгарину? Он ведь перевернул все наши планы: вместо того чтобы быть вместе с коммунистами у республиканцев, мы, брат ты мой, двигаемся к самой что ни на есть сволочи и вынуждены будем воевать под знаменем, которое ненавидим.
— Я Тодору Цолову верю, — подумав, сказал Бармин. — Опутывать нас какой-то паутиной ему нет резона. Зачем? Что ему до двух людей, которые хотят вернуться на Родину? Не такие мы с тобой шишки, чтобы могли играть большую роль в чьих-то политических замыслах.
— Умом, Петенька, я все это понимаю, — глухо сказал Максим. — А вот сердце мое никак не стремится к тем, к кому мы с тобой направляемся…
Он долго смотрел на проплывающие в небесной лазури облака, слушал заливистое посвистывание лесной птицы, и все его мысли были там, в России, где жила его дочь, любимая его Тая. Он хотел представить, какой она стала за шестнадцать лет, но Тая до сих пор казалась ему маленькой девчонкой, такой, как на фотографии, которую Марина прислала на фронт, сообщив в письме о рождении дочери.
«Так и не довелось мне повидать свое дитя, — подумал Максим, покусывая горькую травинку. — И не знает она, родная моя доченька, где бродит несчастный ее отец и как смертно он скучает по ней…»
— Пора подниматься, Максим Мартынович, — потягиваясь, сказал Бармин. — Солнце вон уже где, а путь наш неближний…
Шли уже часа четыре, посидели немного у ручья, умылись прозрачной холодной водой, наспех поели консервов. С каждым километром идти было все труднее. Острым охотничьим ножом Бармин вырезал две дубовые палки, одну из них протянул Максиму.