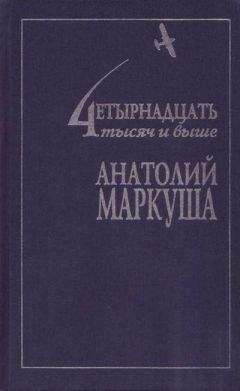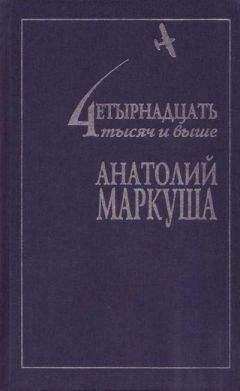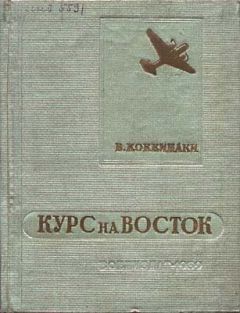В моей биографии эта машина занимала особое место. Она была первой, доставшейся мне, мальчишке-пилоту, прибывшему для прохождения службы в строевую часть.
Надо ли говорить, что мой И-16 представлялся мне самым-самым изо всех прочих точно таких же самолетов, занимавших полковую стоянку. Я не подходил, а осторожно приближался к машине, не смотрел на нее, а вглядывался…
Механик подошел с докладом: так и так, мол, — самолет осмотрен, заправлен, все в порядке, машина к полету готова. Напуская на себя важность, обходил я самолет, покачивал элероны, постукивал по стабилизатору, проверял, петли люфта в воздушном винте, и, закончив ритуал кругового осмотра, попросил у механика самолетный формуляр. Небрежненько так, будто давно уже привык расписываться за прием новых машин.
Формуляр — паспорт и одновременно жизнеописание самолета. В пухлую, одетую в черные ледериновые корочки, книжицу записывают все-все, что случается с самолетом на протяжении его жизни: ремонты крупные и мелкие, регламентные работы, облеты, устранение девиации компаса, короче говоря, каждый шаг.
Механик протянул мне формуляр. Вот сейчас распишусь и… машина сделается моей, законной, персональной!
Похолодевшими от волнения пальцами раскрыл формуляр и прочел на первой странице: «Самолет облетан, к эксплуатации в строевых частях годен. Летчик-испытатель — Чкалов».
Теперь вы понимаете, о каком одном звене я говорил, что связало меня с Валерием Павловичем? Понимаете?
Говорят, верить в бога, иметь бога, что называется в душе, — пережиток. Стоит ли быть столь категоричным? Каждому, я думаю, надо решать самому и для себя, как жить, — с богом или без бога. Лично у меня был мой персональный авиационный бог, его совестью судил я себя. Особенно в тех случаях, когда не все шло гладко и как полагается — Чкалов.
И вот в его ангаре, стою перед нашим истребителем. Вокруг пустынно, прохладно, сумрачно, по-ангарному гулко. И внезапно меня охватывает совершенно неудержимое желание забраться в кабину, вернуться туда… я не умею высказать, не могу найти слов — для чего? Не взлечу, знаю, моложе не сделаюсь, тоже знаю, но… хоть на чуточку приобщусь к утраченной навсегда судьбе летчика.
Глупо? А что поделаешь, кто застрахован от глупостей… И так ли это плохо, если глупости, случается, украшают жизнь?
Озираюсь, все-таки надо бы спросить у кого-нибудь разрешения «посетить» экспонат, делать это самочинно, пожалуй, несолидно, все таки я уже не мальчик, голова седая.
Отправляюсь искать начальство. По дороге натыкаюсь на деда: приземистый, грузный, одет в толстую телогрейку, на голове — поношенная солдатская шапка, на ногах — новехонькие негнущиеся валенки. А время-то весеннее. Нахохлившись, дед сидит около тумбочки, олицетворяя охрану, и в сверхтолстые стекла вполне современных очков в модный оправе разглядывает альбом с какими-то чертежами. Стараюсь выглядеть изысканно вежливым, прошу стража бесценных ангарных экспонатов, о разрешении посидеть в кабине И-16.
Дед выслушивает молча, не дрогнув ресницей, встает с табуретки и куда-то исчезает.
Думаю: пошел согласовывать «вопрос». А чтоб тебя! Еще чуть, — сорвусь, сорвусь и меня понесет, захлестывая святой ненавистью, к бюрократизму и бюрократам, к постановщикам «вопросов»… Но прежде, чем я успеваю запуститься по-настоящему, дед возвращается.
В руках у старика пачка журналов «Авиация и космонавтика», журналы я узнаю сразу по характерной сине-голубой обложке.
— На, — говорит дед, протягивая пачку, — подложишь под задницу, парашюта, извиняюсь, нет, надо чего подсунуть, а то будет низко…
Вот так дед! Предусмотрительный. Симпатичный… а что? В валенках? Так старый ведь, ноги, поди, мерзнут, суставы, небось, болят. Может, он всю жизнь склады окарауливал — в холодрыге, в сырости прозябал. Славный дед…
Подхожу к «ишачку», укладываю журналы в чашку сиденья. Забираюсь сам. С парашютом сидеть было бы удобнее, но и на том спасибо.
Закрываю глаза. Пытаюсь перенестись во времена голубой семерки, когда я был еще очень молод, когда только-только учился думать по-авиационному, сопоставлять происходящее в полете с теми, не больно обширными познаниями, что вложили в нас, курсантов Борисоглебской летной школы, завершивших ускоренный курс обучения перед самой войной.
Открываю глаза. Прислушиваюсь к себе. Оглядываюсь. Сидеть хоть и на авиационных журналах, а неудобно. И вообще что-то не так в самолете. Приборы все на своих законных местах, прицел — тоже. Примеряюсь к сектору газа и со второй попытки левая ладонь ложится на гладенькую его головку, будто и не было никакого перерыва в полетах. И ручка управления хорошо держится в пальцах…
С превеликим трудом соображаю, что же не так — за долгие годы самолет, превращенный в экспонат, утратил запах живой машины!
Мой давний «ишачок» благоухал сладковатым ароматом этилированного бензина, чуть-чуть отдавал перегоревшим маслом, еще меньше — пьянящим запахом эмалита. Какой неповторимый, какой удивительный букет окружал и ласкал меня в живом самолете. И ничего, ничего не осталось.
И сразу полезли горькие воспоминания: рыжая глина свежих могил — сколько их было! — могил, в которые легли тела моих товарищей, чаще всего почти совсем еще мальчишек, и дымные шлейфы подбитых машин в военном небе, и рыжие костры на местах падения, когда и для могил ничего не оставалось…
Не могу. Сидеть в кабине и играть в летчика пропадает всякая охота. Для чего я сюда приехал? Не знал что ли, старый дурак, жизнь заднего хода не имеет, как и самолет, кстати?..
Вылезаю из кабины. Прихватываю журналы, иду к выходу.
Сквозь остекление, расположенное где-то наверху, ангар освещают резкие лучи солнца, и золотые столбы пыльного света кажутся одушевленными, они словно дышат. Солнце рождает тени. «Ишачок», вычерненный на бетонном полу ангара, раза в полтора больше настоящей машины и совсем на нее не похож.
Дедушка-вахтер равнодушно выслушивает мою благодарность, молча указывает на тумбочку: положи, мол, журналы туда, и неожиданно спрашивает:
— У тебя какой налет, парень?
— Две с половиной тысячи часов. — отвечаю немного опешив, чего бы ему мой налет? — А что, отец?
— А так. Салага ты. Шестнадцать тысяч я напилил, в основном в Арктике, в сложняке. Больше половины, пожалуй, ночью. А того долго не мог понять, в чем главный смысл… Года четыре прошло, как меня турнули, вот когда сообразил… Так что ты не расстраивайся особенно сильно, парень.
— И что же вы через четыре года сообразили? — проникаясь разом почтением к отставному полярному летчику, спрашиваю я.
— Радоваться надо каждый день! Это авиация нам велит. Чему радоваться, можно спросить? Отвечаю: ты — жив? Вот и празднуй!
Ноябрь 1988