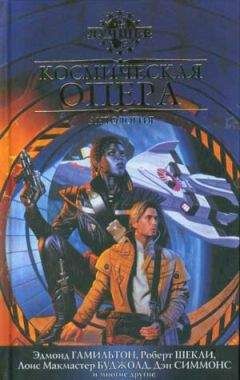— Человек, — мягко говорил Вайлавич инженеру Иваненко, когда они на короткое время оставались вдвоем, — человек — это труд. Все остальное, я думаю, контрабанда. И творчество, и порыв, и жажда знаний — труд. Полагаете, не так?
Обнаружив брак или показуху, он разводил короткие руки, и на лице его появлялись пятна досады и удивления.
— Как же это, Иван Иваныч? — допытывался он у бригадира. — Ведь вы же все отлично понимаете, и делу вас не учить, а вот — сшили совсем не так. Теперь перекраивать надо.
И бригадир, багровея, стараясь не глядеть в глаза начальнику комплекса, бормотал:
— Оно, конечно… что и говорить… Больше так не будет, Ефим Ефремович.
Вайлавич не только держал в руках все нити управления стройкой, понимая дело, — он глубоко и прочно знал суть самых разных строительных профессий. Это неудивительно, — сам начинал свой путь рабочим, — и об этом все на стройке были отлично осведомлены. Рано или поздно он разбирался в людях — и относился к ним с той беспощадной и молчаливой мягкостью, которая всякому человеку страшнее крика или милее похвалы.
Даже талант, говорил Вайлавич в кругу близких ему людей, добывается горбом, и совершенно искренне полагал: министерство назначило его на высокий пост начальника комплекса только потому, что он потрудился на веку больше подчиненных.
Рядом со станом доживал век мрачноватый приземистый барак, построенный еще первыми людьми города. Здесь, у подножия стройки, Вайлавич расположил штаб комплекса. Кабинет начальника представлял собой почти пустую комнату: стол, сейф, несколько стульев и койка, заправленная суконным солдатским одеялом. На сейфе лежала толстая тетрадь, в которую ежедневно заносили историю стройки.
Здесь же, в бараке, одну комнатку занимал общественный штаб, которым ведал секретарь горкома партии Иваненко. Еще совсем молодой человек, получивший диплом инженера после войны, Иваненко подтрунивал над Вайлавичем.
— Вы можете дойти бог знает до чего, Ефим Ефремович. Станете, скажем, спать на полу, положив под голову тетрадку с историей. Но все-таки, зачем этот аскетизм?
— Вы хотите сказать — пуризм?
— Нет. Но с вас много спрашивается, нужна постоянно свежая голова, и вовсе не следует лишать себя элементарных удобств.
— Знаете, Петр Михайлович, — отвечал Вайлавич, — вы носите чин начальника штаба, и это свидетельствует в известной мере о том, что наше дело и бой родственны. Чем меньше удобств в бою, тем больше тяга к ним. Чем сильнее тяга, тем я круче воюю, добывая победу и сопутствующие ей эти самые удобства.
Он ласково глядел в глаза начальнику штаба, улыбался:
— Мы хорошо отдохнем с недельку потом, когда сделаем дело… Я отнюдь не склонен навязывать эти мысли всем. Но ведь я имею право так думать?
— Имеете, — смеялся Иваненко, понимая, что Вайлавич шутит. — И все же я скажу, чтоб вам прислали сюда термос с горячей едой и полушубок. Как начальник штаба, я готов выполнить любое ваше распоряжение. Как коммунист, вы обязаны послушать секретаря горкома.
В бараке штаба, облепленном плакатами, сводками, «молниями» и листовками «Крокодила», день и ночь работали многие десятки людей, но все-таки только эти два человека, совсем не похожие друг на друга, знали обо всем, что связано со станом, все, до мельчайших деталей.
Так командование дивизии или корпуса видит не только то, что охватывает глаз на участке соединения, но и то, что скрывается за пределами взгляда. Значит, не одно лишь наличие сил, но и резервы, идущие форсированным маршем к передовой. Грузовики с боеприпасами, что мчатся туда же по рокадам. Танковый резерв, упрятанный в лесу. К этому следует прибавить знание замыслов командарма. Знание сводки общеармейской и агентурной разведки.
Вайлавич четверть часа назад приехал с аэродрома. В эти самые последние и напряженные сутки работы железная дорога уже почти ничем не могла помочь строителям. Спасали лишь грузовые самолеты. Они мчали на своих загорбках в Магнитку кабель и моторы для вентиляторов, пускатели и приборы автоматики.
Самосвалы, дежурившие в аэропорту, подхватывали грузы «прямо с крыльев» и летели на стройку.
Конечно, такие перевозки — непорядок, но непорядок, с которым строители пока ничего не могли поделать. Для того, чтобы заранее заказать необходимые конструкции и приборы, сосредоточить их на площадке, составить безупречный график монтажа, стройка должна была получить проекты полностью и задолго до начала работ. Но проекты обычно запаздывали, и в них, уже в ходе строительства, вносилось немало поправок. Руководителям комплекса приходилось выкручиваться, а заказчик переплачивал сотни тысяч за самолеты. Нервничали бригадиры и мастера; ты поставил посреди цеха заточный станок, а завтра тебе доставили часть проекта и, оказывается, на этом месте надо рыть котлован.
…Абатурин еще раз посмотрел сверху на Вайлавича и взялся за кувалду. Но не успел приступить к работе.
На кровлю поднимался Линев. Рядом с ним, распахнув полушубок, крупно шагал Жамков.
Дойдя до Павла, оба остановились.
— Собери людей, — сказал Аверкий Аркадьевич Линеву. — Надо донести до их сознания обстановку.
Когда к Абатурину и Кузякину подошли остальные члены бригады, Жамков сказал:
— Товарищи, надо показать, на что способен рабочий класс. Надо постараться для нашего общего дела, для коммунизма.
Слово «коммунизм» он произносил, смягчая звук «з».
— Что такое? — покосился на него Кузякин. — О чем говорите?
— Надо отработать еще одну смену. Дать стране стан в срок.
Абатурин удивленно взглянул на Жамкова: Аверкий Аркадьевич говорил верные слова, но сходили они с его языка холодные, удручающе казенные, — слова для других, не для себя.
«Я просто устал, — поспешил отказаться от обвинения Павел, — и мне не нравится обычная речь».
Монтажники и сварщик не стали возражать начальнику участка. Все понимали: Жамков прав, стан на сдаче, а недоделок много.
И усталые, не предупрежденные заранее люди остались работать во вторую смену.
Жамков спустился вниз.
Рядом с Абатуриным крепил фермы Кузякин. Гордей Игнатьевич казался в эти минуты усталым и угрюмым больше, чем обычно. Работал он, как всегда, споро, но по лицу его было заметно: сердце точит какой-то червяк.
«Не устроен человек в жизни, — подумал Павел, — а сказать не хочет. На себя ведь не жалуются».
Кузякин несколько раз закуривал, но бросал папиросы.
— Вам нездоровится, Гордей Игнатьич? — спросил Павел. — Или устали?
— Ага, — хмуро отозвался Кузякин, и Павел не понял, к чему относится это «ага».
За целый час работы они не перекинулись больше и двумя словами.
Внезапно Кузякин повернулся к Абатурину, сказал вроде бы нехотя:
— Не глуп человек, а вот не терплю его. Сырая душа. И любит себя, на всей земле — одного себя.
— Вы о ком? — покосился на монтажника Павел.
— О Жамкове, о ком же еще?
— Зачем же так зло, Гордей Игнатьич?
— Линию свою гнет, как мужик дугу, — не слушая Абатурина, продолжал Кузякин. — И всю жизнь желает кататься под той дугой.
— Полно, Гордей Игнатьич. Вы просто устали.
— Не устал. Я под его началом лет десять роблю. Скользок, а все одно — и его под жабры ухватят. Время не то, Абатурин, в какое поло́ву за хлеб принимали.
Павел не нашелся, что сказать. Жамков не вызывал у него особых симпатий, но и зло копить на него, кажется, было не за что. По виду судить трудно, а что там, за фасадом, узнать и того труднее.
Недавний разговор с начальником участка оставил неприятный осадок, но — мало ли что — разговор! Бывают всякие люди: одни укрываются словом, другие все в слове — что́ сказал — то и есть.
Не только молоденький Абатурин, но и старики, мало знавшие Жамкова, не всегда бы решились со всей определенностью судить, каков человек Аверкий Аркадьевич Жамков и какого цвета его душа.
Ближе всех к истине стоял, пожалуй, Кузякин, неуживчивый человек с обостренным пристальным зрением.
Дело в том, что Жамков краем уха слышал о семейных неурядицах и водочном грехе пожилого монтажника. Это знание, полагал Жамков, давало ему право «не очень-то цацкаться» с Кузякиным, — и начальник участка, давно знавший Гордея Игнатьевича, говорил ему все, что думал, не прячась за модными словами.
Инженер с многолетним житейским опытом, Жамков принадлежал к тому разряду руководителей, которые отлично понимают, что, как и когда надо делать, чтобы постоянно быть на примете у начальства.
Есть разные виды показухи. Глупый прохвост сорвется быстро: за его показным фасадом обычно ничего нет. Аверкий Аркадьевич презирал простаков. В конце концов, полагал Жамков, человек в обществе стоит столько, сколько в нем видят другие. Ты можешь тянуть верблюжью поклажу, лезть из шкуры, но если это не отражается непосредственно на проценте плана или не видно глазу начальства — ни славы, ни денег, ни почета. Тогда к чему этот ломовой патриотизм?