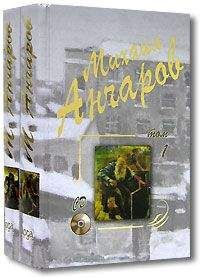— Какого?
— Ну вообще.
— Да нет, я только так, наше, домашнее.
Витька, Витька… А Витька наш фортели откалывает. Я ведь с ним всерьез только летом, в отпуску. А в остальное-то время о нем больше по слухам.
И слухи чудные или глупые. Все ребята бузотерят, а этот — будто людей изучает. Вроде наизусть разучивает.
Вот ругаются — он свой класс зевать приучил.
Сначала сам зевал — весь класс за ним. Потом учитель географии рот разинет: «Ы-а-э-у, ой, что это на меня напало?» Ну и остальные учителя так-то. Зевота — дело заразительное. А потом Витька и зевать перестал. Ему без надобности. Локоть на парту поставит, из указательного пальца и большого клюв гусиный сделает и раскрывает. Да медленно так, с дрожью. Ага-га! Кто заметит — зевнет, и пошло.
Ну? Как это называется?
Или такое:
Собрались пацаны у нас в доме, возятся под столом, сражаются и в коридоре. Сумерки наступают. И я домой вернулся, в кухне над верстаком лампу включил. Потом стали они силой хвастаться своей и родительской — кто чего может неслыханного: кто съесть, кто выпить, кто от земли подтянуть или согнуть. Дело дошло до Витьки, он и говорит:
— А мой дядя, немой Афанасий, может тонну поднять.
Его на смех.
А ведь правду сказал.
Немой-то наш роста среднего, но силы дикой. Никто и не знал его пределов. Ну сильный и сильный, никто ему экзаменов не справлял. Немой, и все. А однажды прислали на завод машину полуторку за трансформатором, а грузчиков не прислали, понадеялись. Ждали-ждали, немой уперся спиной, наклонился и подтолкнул трансформатор к краю лестницы — всего-то и снести надо было два пролета, двадцать две ступеньки. Трансформатор — метр с лишком высоты, а вес — тонна. Немой на две ступеньки спустился и мычит, показывает: наклоняйте, мол, я спиной приму. Все друг на друга глядят и думают: «Дурак или кто? Тонна. Шестьдесят два пуда. Тысяча кило…» А немой улыбнулся и кивнул: давайте, мол. Ну, человек семь-восемь облепили железку, покряхтели, стали наваливать ему на спину эту непостижимую тяжесть, а еще столько же на лестнице притолклось для страховки: решили, хрен с ними, с грузчиками, сами снесем. В азарт вошли.
Он на спину принял и стал по ступеням идти, да на повороте всех и притиснул, которые ему помогали. Кто-то на площадке взвизгнул. Кто-то вниз шарахнулся — явное же сейчас смертоубийство будет и авария имущества. А потом глядят — человек по ступеням тонну несет. Шестьдесят два пуда с половиною.
Из дверей вынес и к полуторке — ждет, когда борт откинут. Еле-еле потом в кузов взгромоздили. Тонна. Вес дикий. Мешок зерна пять пудов, а тут — шестьдесят два.
Ну, конечно, народ побежал по цехам рассказывать, а не верит никто. Ладно. Прошло сколько-то времени. Велят Афоне электромотор со склада доставить. Дали ему лошадь с телегой-грабаркой, наряд выписали, спрашивают: «Грузчиков сколько?» А он головой мотает — нисколько не надо. Тут вовсе шухер поднялся. Не верили? Сейчас поглядите! А в электромоторе с ящиком — около пятисот кило. Не тонна, конечно. Но тоже вес для человека неподъемный. Ну, тут дело чистое — привезет, значит, правда — сила звериная, не привезет — брехня. Привез. Вот так-то.
А потом кладовщик рассказал, как дело шло. Складские, сколько их есть, ящик к воротам подтащили. Афоня боком телегу повернул, один борт снял, два колеса снял — телега набок и завалилась, на две оси. Афоня покаты, бревна, окованные для этих дел, на телегу пристроил, а другими концами под ящик. Потом лошадь выпряг, с другой стороны за телегу завел, к хомуту вожжи привязал и к ящику, потом сказал: «Ц-ц-ц…» — и свистнул. Лошадь потянула, и электромотор по бревнам-покатам на телегу полез. Ну а потом все наоборот — Афоня оси приподнимал по очереди и колеса надевал. Чеки вбил, борт поставил. Лошадку запряг и уехал.
Всю заводскую столовую от хохота качало. Вот и проверь у мужика силу, если у него голова на плечах.
Ну ладно.
Рассказал Витька ребятишкам про Немого и про эти дела, и они ему не поверили, что такая непонятная немая сила бывает, а он им говорит: ах, не верите, что непонятная сила бывает? Ладно. Сейчас прикажу, и свет погаснет.
— Слабо…
— Слабо?… Раз — два — три…
Свет погас.
Слышу, тишина.
— Кончай баловать, — говорю. — Давай обратно командуй.
Ну, думаю, попался Витька. Ничего. Наука, чтоб не брехал.
Тогда он снова: раз — два — три, — и резиновым верблюдом по стенке стукнул. Свет и зажегся. Все орут — ура!
Я спрашиваю: как сделал?
— Это ж от сотрясения, — говорит он. — Выключатель довернулся. Все дело в верблюде.
Ну конечно! Проводка открытая, жгутом на роликах по стенке идет, может, от сотрясения выключатель и довернулся. Все ясно.
Стали ребята дальше играть, а я на кухню, к верстаку. И вдруг соображаю: а почему у меня свет выключался и включился, если у них выключатель барахлил? На кухне-то выключатель свой. Верблюд резиновый даже не пикнул, когда Витька его об стенку. Какое, к черту, сотрясение? Да ведь и первый-то раз он только голосом командовал!
— Витька… выдь в коридор!
Вышел.
— Ты мне голову не морочь… Сотрясение…
Молчит.
— Ну и как же ты это сделал?
— Не знаю, — говорит. — Сам удивился… я, папка, знаешь когда сдрейфил?
— Когда?
— Думаю, второй раз скомандую, а не зажжется… Так и будем в темноте… Ну я и это… верблюдом помог… все-таки резиновый… изоляция…
— А при чем тут изоляция? — спрашиваю. — Ты дурак или кто?
А сам про себя думаю — а я кто?
Сначала дед со своей магией, теперь Витька…
Но тут сверхчеловеки рейхстаг подожгли, и стало не до магии, не до резинового верблюда, и не до игрушек никаких.
16
…Еще весной хлебные карточки отменили. В булочной после ремонта — на потолке зеркала клинышками, чистота, «жаворонков» сладких продают с глазками изюминными, плетенки румяные с маком, называется «хала».
Люди шли к открытию булочной и тихо покупали хлеб и булки.
Господи! Да ведь порядочному человеку больше ничего и не надо. Чистота, хлеб, небо высокое и семья живая — чудо живое.
И еще книги. Зачем читаю — не знаю.
Память, память, некоторые считают, что память и есть душа. Вряд ли.
Поехали Зотовы всей семьей в отпуск в город Вязьму жить на окраине. В этот год там подешевле еда была — творог, ягоды. Детей к зиме подкормить.
Зотов с женой и сыночком поехали и две жены его братьев с детьми. Одна жена Николая — второго, другая — Александра — третьего. Санька-Пузырь по торговой части: распределители, отто, брутто, нетто, тара, недовес, недолив, усушка, утруска, провес. А Николай, в Цветметзолоте — канцелярия с тайгой пополам — рудники, контракты, золотишко, драги. У Кольки зарплата высокая, у Саньки пайки и так доставал. Колькина жена деньгами не стеснена, Санькина — колбаса копченая, шпроты, сливы соленые — называется маслины. Одна горечь, а жрет, и ничего.
Сынок мой на меня поглядывает — может, он думает: а в чем твоя отличка, Зотов Петр — первый, токарь-пекарь, станочник, философ-пешеход? Только что дылдой вырос и, когда бабу за руку беру, баба млеет? Да что толку? Жена Таня рожать не хочет.
— Нет, — говорит. — Если б ты меня одну любил, а так что ж… Тебе все равно от кого дети, от меня или от любой. Старшенький у меня живой, здоровый, своей семьей живет, второй сыночек у меня умер от холоду, третий — приемный. Внук Генка растет-подрастает, а более не хочу. Гуляй с кем знаешь, только семью береги, разводы сейчас легкие. Не бросишь?
— Куда ж я от вас? — говорит.
«И то верно. Куда же я от них? Я как подумаю, что с ними какой-то другой долдон будет или они вовсе одни останутся, — у меня сердце перехватывает. Не могу я себе их представить брошенными. За что? Не за что. Нищету выдержали, войну пережили, голод выдержали, выдержим и скуку. А они мне родные, как рука или там нога. А с рукой или ногой не разводятся…
— А на баб мне твоих наплевать, — говорит Таня. — Одного я тебе не могу простить — твою тайну…
А тайна моя — могилка полузабытая, бурьяном заросшая, и курский соловей над ней поет. Женщины для меня все одинаковые, а соловья забыть не могу. Где ты, Машенька?…»
А жены братишек зотовских ругаться начали, как в Вязьму приехали, и друг перед другом величаются. Мой муж! Мой муж! Одна деньги не глядя достает из портмоне, другая колбасой копченой угрожает. Вот дуры! Обе телесастые, у обеих юбки выше колен и халаты распахиваются. Цветметзолотая в канцелярии сидит, считается — работает, а торговая и в канцелярию не ходит, дома греется. Цветметзолотая орет: «Тебе хорошо! Дома сидеть! А ты поработай, походи на службу, я посмотрю, какой у тебя дома порядок будет и какая ты сама будешь!..» А сама халда халдой, нечесаная, чулок перекручен, халат сикось-накось, рот не вытерт, — хоть крась его, хоть так оставь, как есть. Другая, торговая жена, Санькина, правда, почище будет. По дому быстро все уладит, обед сварит, простирнет что надо и маникюром намажется, и педикюром, и помадой, — ягодка, будто и не хозяйствовала.