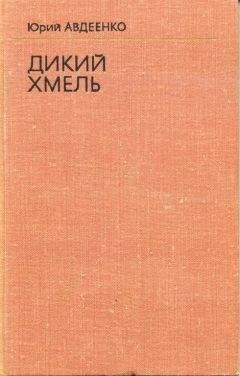— Нет. А кто это?
— Был такой писатель. Известный в двадцатые-тридцатые годы.
Я призналась:
— Никогда не слышала.
— Вполне возможно. Вы родились гораздо позже. У него есть рассказ «Грэго-Тримунтан».
— Странное название.
— Морское. Так моряки называют ветры... Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море. Всегда можно сказать о людях, что они просты, и никогда нельзя сказать, что просты люди.
— Как хорошо.
— Это не я. Это Пильняк...
— А вы... Вы сами что-нибудь пишете?
— Пишу вещь.
— Вещь?
— Да. Так принято называть рассказ, повесть, роман.
— Что же вы все-таки пишете? Рассказ, повесть, роман?
— Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море. Всегда можно сказать о людях, что они просты, и никогда нельзя сказать, что просты люди.
1
Перелистала словарь.
«Церемония, церемонии — лат. cerimonia, caerimonia — благоговение, почтение: 1) внешние формы, соблюдаемые в торжествах; 2) торжество по заранее установленному плану; обряд по установленным правилам; 3) внешние условности, жеманство».
Все верно! Мы обошлись без церемонии. Без белого платья, фаты, черного костюма и лакированных ботинок. Обошлись без поздравлений и даже без цветов.
На Бурове был повседневный серый костюм и туфли, заляпанные жидкой грязью, потому что в тот вечер, когда мы вышли из загса, над Москвой моросил липкий дождь и тротуары не блестели, как после весенней грозы: на них лежали грязь и опавшие листья.
Такси свободных не было. Мы долго маячили на перекрестке. А фонари маячили над нами, тусклые, будто под колпаком. Потом кто-то посадил нас в машину, не таксист, а частник.
Откинувшись на заднем сиденье, Буров изрек:
— Veni, vidi, vici[1].
— Лучше всего в «Метрополь», — ответил водитель, видимо принявший Бурова за иностранца.
Я тоже не поняла слова Бурова.
Вначале я не понимала слишком многого из того, что он говорил. Возможно, это было одной из причин, по которой я вышла за него замуж.
— Способность абстрактно мыслить в настоящее время не что иное, как атавизм. Наш мир слишком конкретен, слишком практичен, наконец, слишком стандартен для абстракции.
Эту тираду и другие, подобные ей, я слышала от Бурова еще задолго до того, как он произнес три простых человеческих слова:
— Я люблю тебя.
Но вместо испуга, ужаса, отчаяния была горда, именно горда и рада от сознания того, что слышу эти три слова из уст, как мне тогда казалось, очень умного человека. Я была заворожена его умом, как можно быть завороженным голосом певца или стихами поэта.
Возможно, и первое, и второе, и третье — сплошные глупости. Но мне тогда было только восемнадцать. Из той фразы Бурова я поняла лишь одно мудреное слово — атавизм. Про волосатость нам рассказывали в школе. Но мне вовсе не хотелось обнаруживать свое невежество и, допустим, предлагать ему пользоваться электрической бритвой. Я чаще всего повторяла два-три последних слова, произнесенных Буровым, придавая им оттенок вопроса.
— Для абстракции?
— Совершенно верно, Наташа. Живое мышление невозможно без способности отвлечься от тех или иных сторон, свойств или связей предмета. Диалектический путь познания истины, как широко известно, предусматривает переход от живого созерцания к абстрактному мышлению. А потом к практике. То есть к нашей работе, к трамваю, к булочной, билетам в кино и конкурсам в институты. Кстати, на какое отделение сдала документы?
— Технология обработки кожи.
— Тебе нравится шить обувь?
— Нельзя же ходить босиком.
— Верно. В наших широтах холодно. Но, с другой стороны, на фабрику ты попала случайно.
Жаль, тогда я не знала, что случайность — непознанная необходимость. Возможно, я бы сразила его. И он не сделал бы мне предложения. Он мне потом признался:
— Женитьба на умной женщине не входила в мои планы. Я был убежден и остаюсь убежденным, что для такого маленького сообщества, как семья, вполне достаточно одного ума. Возможно, что именно это теоретическое положение могло бы спасти семью на земном шаре как социальную форму. Ибо не нужно быть мудрецом, чтобы понять: ее ждет участь динозавров.
Ни для кого не секрет: людям свойственно критически оценивать свое прошлое. Я не собираюсь кусать локти с досады. Но, обладай я волшебной силой вернуться назад в свои восемнадцать лет, я бы не повторила все сначала — точка в точку.
Там, в Туапсе, увидев Бурова за соседним столиком, я почувствовала легкий испуг и неловкость, словно уже была виновата перед ним в чем-то.
Он сказал:
— Наташа, я приехал к вам.
Толстые очки скрывали его глаза. В выпуклых линзах отражался полупустой зал с красно-желтым пластиковым полом. Официантка, молодая и смазливая, стояла возле холодильника, белого, как больничная палата, и смотрела на меня. Профессиональным чутьем она угадала ситуацию и, вероятно, предвидела скандал.
Я поднялась, не сказав ни слова. И пересела за столик к Бурову.
...Вновь бы этого я не повторила...
Буров прикрыл ладонью мою руку. Но не улыбнулся. Как показалось мне, вдруг задумался — так легкая тень облака набегает на землю, — потом сказал тихо, доброжелательно:
— А еще я приехал по делу.
— Да? — спросила я удивленно и, наверное, очень искренне. Мне и в голову не приходило, что в этот зеленый южный город, где так хорошо пахнет море и такие красивые улицы, можно приезжать по делу.
— Вы помните отчество своего отца?
— Алексей Далматович Миронов.
— Далматович — достаточно редкое отчество...
— Достаточно редкое? — повторила я, вопрошая.
— К сожалению, мода — это не только одежда и предметы быта. У нас много Юриев и Владимиров. И почти исчезли столь красивые имена, как Маврикий, Евлампий, Варлам, Далмат... А такое чудесное женское имя, как Евпраксия, не встретишь даже в самой глухой деревушке, где еще люди помнят образы и обычаи своих предков.
— Это плохо, — сказала я осторожно.
— Скорее печально...
Молодая официантка подошла к нашему столу, бросила меню. И спросила не очень любезно:
— Заказывать будете на двух персон или на одну?
Буров вопросительно посмотрел. Я уклонилась от взгляда, изобразив глубокую заинтересованность пятном на скатерти.
— На двух, — твердо сказал Буров.
Я подняла глаза на официантку. Она была хороша, но уж очень явно не уважала никого на свете.
— Принесите нам свежих овощей, какой-нибудь травки...
— Свежих овощей нет, травки тем более...
— Почему, же? — спокойно произнес Буров. — Я видел на рынке горы помидоров, огурцов.
— Идите на рынок и покупайте, — можно сказать, нахально ответила официантка. Но, конечно, слово «нахально» слишком слабый синоним того, как было сказано на самом деле.
— Какую же закуску вы можете предложить?
— Сыр.
— Рыба есть?
— Нет. Только сыр. И вообще меню перед вами, читайте, если грамотные.
Буров подпер подбородок ладонями. И очки его, словно бинокль, уставились на официантку. Она увидела себя в этих очках. Несомненно, увидела, потому что как-то оцепенела, не то чтобы растерянно, но озадаченно. Между тем твердым, холодным, властным голосом Буров произнес:
— Пройдите к директору ресторана и скажите, что журналист из Москвы просит его к своему столу.
Вспыхнув, вильнув плечами и бедрами, официантка исчезла.
— Ваши поклонники проявляют беспокойство, — сказал Буров.
— Это не мои поклонники, — ответила я. — Я их вижу впервые. Они хотели нас закадрить, и только.
— Пусть кадрят Закурдаеву. Она и с двумя сладит.
— Я не сомневаюсь.
— Я тоже. Но не будем сплетниками. У нас впереди интересный, серьезный разговор.
Если люди рождаются с задатками математика или столяра-краснодеревщика, поэта или повара, то Буров, как мне кажется, был рожден с задатками лектора, но не простого, обыкновенного, а такого, чьи лекции предназначены для крайне неподготовленной и даже недоразвитой аудитории. Поэтому почти каждый его монолог представлял собой помесь серьезных теоретических, исторических и фактических положений с вещами абсолютно банальными, широко известными. Но все это подавалось весомо, словно было известно одному Бурову и никому больше.
— Каждый прожитый день уходит в прошлое. А прошлое — это история. История государства, человека, автомобиля, города. — Буров снял очки, неторопливо, с большой осторожностью стал протирать стекла, достав из плоской, похожей на портсигар коробочки, лоскут фланели. Это были какие-то очень ценные очки цейссовского стекла, привезенные матерью Бурова из ГДР. — За пять лет до вашего рождения, милая Наташа, началась вторая мировая война. Ваша мать в те годы, видимо, была еще совсем юной девочкой, да и папа, надо полагать, тоже, раз он был призван в армию только в сорок третьем году.