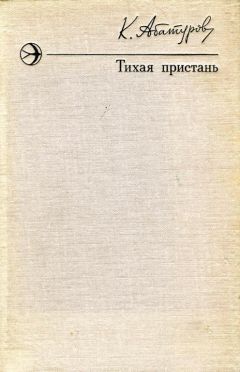Что касается лично Прохора Васильевича, то он с достоинством пронес через все годы высокое звание советского лесного рабочего. В Шумиху приехал тридцать лет назад, в первый год образования лесопункта. Тогда тут было всего четыре дома. С горсткой первых посланцев он стуком топоров будил этот глухой угол — угол непуганых птиц, прокладывая дороги в лесосеки, отправлял из них первые кубометры железной прочности бревен и для больших строек пятилетки, и для своего поселка. Теперь вон какое чудо выросло на месте вырубок: поселок с пятитысячным населением стал похож на город. Все есть: кинотеатр и библиотека, средняя школа и училище механизаторов, больница и детсады, магазины и столовые, почта и сберкасса… А еще вон начали строить профилакторий.
От обыкновенного лесоруба, вначале владевшего лишь лучковой пилой да топором, Прохор Васильевич прошел путь до самого опытнейшего мастера на лесопункте. Недаром же он называется здесь и главой династии лесозаготовителей. Верно, у него нет ни орденов, ни медалей. Только Ивану довелось получить орден Трудового Красного Знамени. Ведь вот, шут его побери, даже об этом не попомнил, негодный. Ишь, какой номер выкинул орденоносец! Да тебя надо знаешь как строгать?
Прохор Васильевич несколько раз заглядывал в комнату, где лежал на кровати Иван. Хотелось обругать его самыми хлесткими словами, но пока он только про себя костил провинившегося. Расхаживая взад-вперед по просторному дому, в свое время построенному им с помощью того же Ивана, он ловил себя на мысли: а ведь Иванко и впрямь всех способнее, не только шоферить, но и по плотничной части мастак. Топор-то у него, как смычок у скрипача, играет. А что придумал, когда еще мало автомашин было? Вычитал где-то в газете, что в некоторых северных леспромхозах возят лес по ледяным дорогам, и пришел к начальнику: давайте, дескать, и мы такую дорогу, хоть одну, проложим. Когда свежий лед заблестел на дороге, он явился к начальнику с новым предложением: «Берусь водить по ледянке не простые воза, а целые лесные поезда». Начальник еще подзадорил его:
— А сумеешь? Не осрамишься?
— Раз берусь, значит, сделаю! — ответил Иван, тряхнув чубатой головой и сверкнув крупными черными глазами.
Ему дали дюжину однополозных саней, на которые грузился лес. Хотя у Ивана в ту пору был не больно прыток автомобиль, но брал он длинные поезда и вел их по ледяной глади на высокой скорости. Доставит на склад один поезд и сразу едет за другим. Бывало, за день-то привезет кубов сто пятьдесят, а то и больше. Один за десятерых управлялся. И все ему, ненасытному, мало было. Как он переволновался, когда после окончания зимней вывозки леса вызвали его в леспромхоз по экстренному, как было сказано, делу. «За что-то хотят хвост накрутить».
Но в леспромхозе в торжественной обстановке объявили о награждении Ивана Прохоровича Сорокина орденом Трудового Красного Знамени. Удивленный столь неожиданной наградой, Иван не нашелся что сказать. Зато дома, показывая всем орден, разговорился:
— Простому шоферу, а?.. Как же теперь отвечать на это?
— А так — работой, трудом! — ответил тогда Прохор Васильевич. Он с гордостью похлопал сына по крутому плечу и обратился к Николаю, затем к дочке и зятю, пришедшим поздравить награжденного: — Не отставайте от первого орденоносца. Слышите?
— Постараемся! — был ответ.
Старались. Но впереди всех опять же был Иван. На каких только машинах не приходилось ему работать, и ни одна не отбивалась от рук. Золотые ведь руки-то у чертяки! И вот что натворил. Ах ты сукин сын! Да какое право имел ты так оступиться?
Больно было старику, теперь уже пенсионеру, подводить под всем, что сделал младший, такую черту. Сегодня он впервые выходил на улицу провожать на работу свою династию в неполном составе — без Ивана…
Иван мучился не меньше старика. Но на свой проступок он глядел другими глазами. «Подвел же этот шабашник человека! — мысленно упрекал он Егорова. — Из-за него все и пошло кувырком. Какое ему дело до техники, до удобств погрузки, ему лишь кубы подай… За Галинку мстит, рябой черт. А мстить-то надо бы мне ему. Ограбил ведь! Ну ладно, я еще проучу тебя. Со мной-то могут и посчитаться…»
Он был уверен, что старые заслуги могут оправдать его и перед начальством, и перед строгим отцом.
Несколько раз Иван вставал, пил квас. Хоть квас считается летним напитком, но у Сорокиных он не переводился круглый год, даже в теперешние трескучие морозы. Вытерев толстые губы, Иван мельком заглядывал в настенное зеркало. Ужас, каким растрепанным да неловким видел он себя в зеркале. Заросшее черной щетиной лицо как-то странно вытянулось и опухло, под заспанно-мутными глазами синие круги. Рубашка, не заправленная в штаны, мешком висела на его крупных костлявых плечах.
— Тьфу, какой противный, — плевался он и, хватаясь за голову, опять шел к кровати. Так сильно никогда еще не болела голова. — Нализался же вчера…
К вечеру он уснул. Даже захрапел. Но спать долго не пришлось. Отец разбудил его и позвал в большую комнату, которая служила и столовой и спальней старика.
Войдя в комнату, Иван увидел сидевших за большим прямоугольным столом чуть не всю родню. Пришел старший брат с женой и Игорем, сестра с мужем (они жили отдельно в соседних домах). У самовара пристроились седенькая сгорбившаяся мать с его женой, напротив в плетеном кресле сидел отец. Рядом был свободный стул. На него и пришлось сесть Ивану.
На столе стояла полная ваза ягодного варенья, в тарелках лежали свежие пирожки с солеными грибами.
— Полагалось бы поставить бутылку, но подожду до большого праздника, — принимая от жены чашку чая, начал Прохор Васильевич.
— А вон Иван не больно ждет праздников, — заметила Валентина.
— Он, видишь, большой у нас — сам законы устанавливает…
Иван отставил стакан, нахмурился.
— Ты зачем позвал — для проработки?
— Проработка — не то слово, сынок, — медленно поднял на него отец суровые глаза. — Судить тебя будем! Нашу рабочую фамилию ты очернил. Перед всем обществом очернил. Какими глазами мы теперь посмотрим в очи посельчанам? Об этом ты подумал?
С минуту в комнате стояла тишина, слышно было только, как тикали часы да за окном гудели промерзшие провода.
— Говори же, как ты посмел от дела уволиться? — негромко, но очень внятно спросил Прохор Васильевич, и в голосе его послышалась обида и гнев.
— Отвечай, брат, — потребовал и Николай.
— Один, что ли, я выпил? — виновато пожал плечами Иван. — Шоферская работа такая…
— Нет, ты не скрывайся за других, за «шоферские условия», — оборвала его сестра. — Ты должен бы сам других останавливать.
— Вот именно, — подхватил отец. — А у него, видите ли, нервы зашалили, не может без выпивки…
— Да что вы на меня напустились? — выкрикнул Иван. — Разве я мало дал леса? Разве им не досталось? — выкинул он вперед крупные в мозолях руки. — За что же мне орден прикололи?
— И за орден не спрячешься! — отрезал Прохор Васильевич. — Я ведь тебя, сынок, насквозь вижу. После награждения тебя захвалили и избаловали. Собрание — непременно в президиум, конференция в районе и области — в делегаты, в президиум, праздник — твой портрет на виду… Как же, единственный трудовой орденоносец во всем поселке! И ты подумал, что тебе все можно. А между прочим, орден, как я понимаю, для того тебе и даден, чтобы вперед проворнее шел. А ты пятишься назад.
Он поднялся, обошел вокруг стола и остановился напротив Ивана, красного, как только что попарившегося.
— Слушай мой сказ: если не можешь вперед идти, расстаться с зазнайством, то сходи в контору и заяви: возьмите, мол, мою машину, не способен я больше работать на ней. Не достоин!
— Да ты что, батя? — вперился в него Иван. — Отпевать решил? Ну, шалишь!
— Тихо! — остановил его Николай. — Ты нам прямо скажи: признаешь вину?
— Опять про выпивку? — попытался уточнить Иван.
— Нет, про последствия.
Иван развел руками.
— А к чему такие громкие слова? Разве бы я не выехал в лес, если бы не Егоров…
Он сбивчиво рассказал о ссоре с бригадиром.
— Ага, рассердился на Егорова и пошел в буфет, — саркастически усмехнулся отец. — А ты у кого, позволь справиться, работаешь: у Егорова или у государства?
Он сел на свое место и сбоку взглянул на сына. Увидел, как у того часто замигали глаза, дрогнули густые брови.
— Я жду! — заторопил его с ответом отец.
Иван резко провел рукой по глазам, как бы снимая с них что-то очень мешающее зрению. И повернулся к отцу.
— Думаешь, я перепутал?
Подождав с минуту, тихо ответил на свой же вопрос:
— Не знаю. Может…
Но тотчас же снова вскипел.
— Я что защищал? Машину, технику. Ему, рябому дьяволу, заработок нужен, ему не до машины. А я хотел, чтобы он эстакаду исправил, чтобы не пробила она МАЗ.