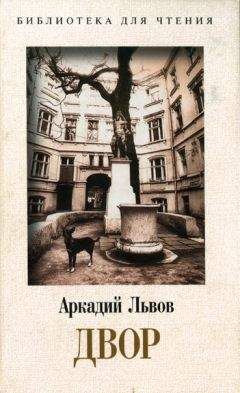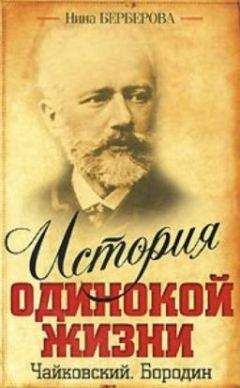Иона Овсеич рассердился: какие глупости лезут ей в голову — это ее личное дело. А Котляр надо предупредить, пусть не ведет посторонних разговоров.
Что значит посторонние разговоры, возмутилась Клава Ивановна. Больной человек к ней обращается, а она должна сидеть, как истукан?
Дегтярь сощурил глаза: если человеку лезут в голову всякие глупости, кто видел, чтобы ему становилось легче от того, что эти глупости поддерживают и ойкают вместе с ним!
Нет, возразила Малая, когда человеку больно и ему сочувствуют, делается легче. Иона Овсеич усмехнулся: если от сочувствия делается легче, значит, боль не такая смертельная и можно терпеть.
— Не мерь всех на свой аршин, — парировала мадам Малая, — на то ты Дегтярь!
Ладно, махнул рукой Иона Овсеич, на эту тему хватит. Теперь насчет старика Киселиса: надо обязательно зайти в больницу — у человека нет родственников, может подумать, что все забыли его. Малая должна сама зайти.
Клава Ивановна сказала, ей одной трудно, приходится разрываться на части, но раз надо, значит, надо.
На другой день после обеда Клава Ивановна оставила вместо себя Степу Хомицкого, а сама пошла в больницу Сталинского района, терапевтическое отделение. Старик Киселис, когда увидел ее, немножко был удивлен и поинтересовался, кто у нее здесь лежит. Клава Ивановна ответила, что у нее здесь никто не лежит, она пришла к нему и принесла баночку компота, полкило абрикосов и помидоры. Помидоры на редкость удачные. Помидоров, сказал Киселис, не надо, от них сильно пучит: газы давят на диафрагму, диафрагма жмет на сердце, и нечем дышать. Клава Ивановна объяснила, что у нее то же самое, и она пропустит помидоры через терку. Сейчас она зайдет на пищеблок и достанет там терку.
— Мадам Малая, — Киселис взял ее за руку, — честное слово, не стоит труда. Сколько мне осталось? Как-нибудь дотяну без тертых помидоров.
Клава Ивановна поразилась:
— Киселис, в этом году ты будешь первый раз выбирать, а у нас выбирают с восемнадцати лет. Кто же в восемнадцать лет думает про смерть!
— Мадам Малая, — покачал головой Киселис, — на мне уж четыре раза по восемнадцать.
— В чем же дело: так мы дадим тебе четыре голоса, и выбирай себе на здоровье. А теперь не держи меня — я иду за теркой.
По дороге Клава Ивановна зашла в ординаторскую.
— Доктор, — сказала она, — мне не нравится, как выглядит больной Киселис. У него тяжелое дыхание и не те глаза.
Доктор ответил, ему тоже не нравится больной Киселис, но медицина может столько, сколько может, не больше.
Это не ответ, сказала мадам Малая. Когда больница намечает выписать Киселиса домой?
— Домой? — удивился доктор. — Бывает по-всякому.
— Что значит по-всякому? То есть можно прийти, а можно и не прийти? Говорите ясно.
— Уважаемая, — доктор взял Клаву Ивановну под руку, — по-моему, вы не меньше меня в курсе дела.
Клава Ивановна вдруг почувствовала слабость в ногах и присела на табурет.
— Он ваш родственник? — спросил доктор.
Клава Ивановна не ответила, кем ей приходится больной Киселис, с трудом, по-прежнему держалась слабость в ногах, поднялась и пошла за теркой в пищеблок.
В пищеблоке терки не дали, а велели принести помидоры и натереть здесь. Мадам Малая сказала людям из кухни, что они формалисты с каменным сердцем, но не стала даром терять время на споры. Люди крикнули вдогонку, что здесь не ресторан, и если несут больному передачу, надо помнить про него, а не про себя.
Старик Киселис, когда мадам Малая подала ему баночку с томатным пюре, съел несколько ложечек, почмокал губами и признал, что помидоры на редкость удачные.
— В Одессе лето, — Клава Ивановна расстегнула верхние пуговички блузки, чтобы мог пройти свежий воздух. — Это надо своими руками потрогать: в Одессе лето.
— Я родился в Одессе, — сказал Киселис, — я родился на десять лет раньше, чем отец полковника Котляревского построил наш дом. Котляревский был неплохой человек.
— Они все были хорошие для себя, — сказала мадам Малая.
— Котляревский знал свое дело, — продолжал Киселис. — Его считали неплохим мануфактуристом. Он вел дело с Лондоном, с Гамбургом, с Лионом. Его уважали все, бедняки тоже. Когда человек не мог уплатить за квартиру, он не выбрасывал сразу на улицу, а давал отсрочку.
— Киселис, — перебила мадам Малая, — тебе сейчас не надо об этом думать. Думай лучше о чем-нибудь другом — веселом, приятном.
— У Котляревского был еще один дом — на Екатерининской. Там жил мой брат. Он брал мануфактуру со склада Котляревского, где теперь база горпромторга. А напротив, через дорогу, были склады мануфактуриста Бломберга. Бломберг тоже неплохо знал свое дело.
— Киселис, — покачала головой Клава Ивановна, — можно подумать, тебе скучно без них.
— Бломберг вел дело с Лондоном, с Гамбургом, с Лионом, с Лодзью. У Бломберга были склады на Троицкой и на старом базаре. Я поднимался каждое утро в полпятого, потому что магазин на Александровской, возле Старого базара, должен был открываться всегда в одно время: шесть часов. В четыре года у меня была корь, потом коклюш и скарлатина, тогда этим болели все дети, потом я учился в коммерческом училище Файга. Училище Файга было на Нежинской, где теперь клиника Главче по венерическим болезням. Моя мама наняла репетитора по французскому языку: считалось, что коммерсант должен быть интеллигентным человеком. Мадам Малая, можете поверить мне на слово, я говорил по-французски, как вы по-русски.
— Киселис, я прошу тебя: скушай одну абрикосу — здесь много глюкозы, это полезно для твоего сердца.
— Учителя музыки, скрипача Цунца, наняли, когда мне исполнилось семь лет. Моя мама никогда не рассчитывала, что из меня выйдет Яша Хейфец, Яши Хейфеца тогда еще не было: она просто хотела, чтобы ее сын в трудную минуту мог взять скрипку в руки для самого себя.
— Киселис, — мадам Малая наклонилась, чтобы шепнуть на ухо, — я уже долго сижу, может, тебе надо куда-нибудь выйти?
— Нет, — улыбнулся Киселис, — мне дали все, что нужно — тарелку, чашку, урыльник, — я могу оправляться, когда хочу.
— Хорошая больница, — вздохнула мадам Малая, — хорошие специалисты. Где раньше каждый человек мог иметь бесплатно такое лечение и такой уход? Ты спокойно лежишь себе и не ломаешь голову, откуда взять деньги на лекарство, на доктора, на питание. Лекарство дают тебе по часам, доктор сам приходит к тебе, питание тебе приносят и еще волнуются, чтобы ты все скушал. Ответь, где раньше ты имел это?
Раньше, сказал Киселис, он этого не имел: после кори, коклюша и скарлатины у него не было болезней, а человеку, если он здоров, не нужны доктора.
— Э, — сделала пальцем Клава Ивановна, — это уже некрасиво с твоей стороны: когда хорошо, человек должен честно признать, что хорошо. В общем, выздоравливай побыстрее и нечего здесь сидеть. А когда придешь домой, мы тебе сделаем подарок, новый форпост, и ты будешь учить там детей — пусть наши дети тоже знают французский язык. Твое имя повесят на доске почета, каждый будет идти мимо и читать про тебя.
— А что, — Киселис сладко зажмурил глаза, — гроб маленький, туда надо брать только необходимое, а то для самого места не хватит.
Перед уходом Клава Ивановна опять заглянула в ординаторскую.
— Доктор, — сказала она, — может быть, есть какое-нибудь дефицитное лекарство? Дайте мне название — мой сын живет в Москве, я напишу ему.
Доктор пожал плечами.
В этот день Граник закончил грунтовку стен в старом форпосте. Иона Овсеич вместе с Малой и Лапидисом осмотрели стены, все трое признали, что на таком грунте краска будет держаться двести лет.
Насчет Киселиса, когда Клава Ивановна передала весь разговор, Иона Овсеич сказал с горечью: как сильно держатся пережитки, человек уже одной ногой там, казалось бы, можно оглянуться, чтобы самому себе открыть, наконец, правду, так нет — он вспоминает прошлое, начиная с самого детства, вроде ничего лучше в жизни не было. Больше того, получается, как будто не только ему одному, а всем людям на земле вместе с ним было хорошо. Карл Маркс и Ленин постоянно напоминали нам про неизбежную узость классовой позиции мелкой буржуазии, и они были правы на тысячу процентов: человек всасывает в себя вместе с молоком матери и никогда уже не сможет полностью отделаться от них.
Лапидис, пока Дегтярь рассуждал вслух, стоял рядом и молчал. Потом, когда прошло уже всякое время для ответа, вдруг сказал, что история знает немало других примеров, так как из среды самих эксплуататоров выходили могильщики капитализма, а еще раньше — феодализма. Взять хотя бы Анри Сен-Симона.
— Инженер Лапидис, — улыбнулся товарищ Дегтярь, — на смену феодализму, который был эксплуататорским строем, пришел капитализм, тоже эксплуататорский строй, так что разница небольшая.