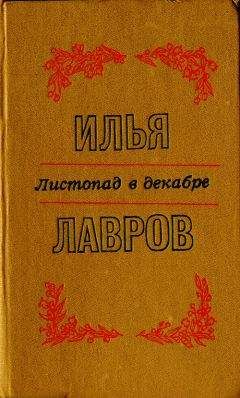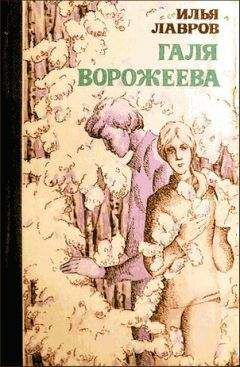Над городом опять зашумели аплодисменты.
— Ты купи себе на зиму валенки, — проговорил Стогов. — Береги себя.
Такси мчалось по слабо освещенным улицам. Мокрый асфальт на площади отражал огни. Его облепили желтые листья кленов.
Перед шофером качались маятником две палочки: «дворники» сметали со стекла дождевые брызги. Над машиной торчал металлический прут радиоантенны. Стогов продолжал слушать свой концерт и здесь:
Я вас любил, любовь еще, быть может…
Стогов медленно провел по лицу рукой. Катя обняла его, чтобы не очень трясло, прижала к себе.
Молодой шофер в кожаной тужурке, без кепки, слушал, прищурив глаз и переломив одну бровь. Должно быть, песня напомнила ему что-то очень хорошее, и он сейчас или жалел, или вспоминал о чем-то.
Машина выехала из города и стала спускаться к берегу протоки, проскочила по деревянному мосту с прыгающими досками, взобралась на песчаный остров, густо заросший высокими тополями. Фары освещали частокол стволов.
Радио смолкло.
— Эх, здорово! — вздохнул шофер. — Это ведь нашенский певец, из нашего города! Монтером, говорят, работал, а потом как рванул на смотре самодеятельности, так все рты и разинули. Сразу же забрали учиться.
Катя глянула на Стогова, а он, сняв шляпу, смотрел на дорогу. Стогов очень любил глухие дороги в лесу. Немало побродяжил он здесь с ружьем.
— Ты подари мою берданку брату, когда встретитесь, — задумчиво проговорил Стогов. — Он тоже заядлый охотник.
Ярослава Тромбицкая объявила новую песню…
В свет фар попал серый заяц. Ослепнув, обезумев, мчался перед машиной, прижав уши. Шофер увеличил скорость. Заяц не мог вырваться из огненной полосы. Колеса приближались к нему.
— Не надо! — тихо попросил Стогов.
— Что, не надо?
— Не давите.
— A-а! А я частенько охочусь за ними таким манером. Газану — и крышка!
Шофер выключил свет, а когда включил — зайца уже не было…
Такси остановилось на другой стороне острова. Здесь приставал пароходик из Саратова.
Стогову казалось невозможным забыть этот берег и темный гулкий лес, запах увядшей листвы и шепчущийся дождик в ветвях.
— Отдай соседу «Войну и мир». Я у него брал, — напомнил он.
Лампочка тускло освещала закрытый ларек, окруженный пивными бочками, фанерную будку кассира с пустым окошечком, сырую песчаную тропинку, облепленную белыми рваными билетами, и несколько грузовиков, смутно проступающих во тьме под деревьями.
Сверкая огоньками, подплыл пароходик «Смелый», яростно шипя, выкатил на воду клубы пара и приткнулся к голубой плавучей пристани.
Волны баюкали дебаркадер, пахнущий смолой. Сходни — две доски с набитыми рейками — колыхались под ногами. Стогов сел на решетчатую скамейку около борта.
— А ты знаешь, я на этом пароходике плавал еще мальчишкой…
Пароходик загудел, словно проснулся и с воем зевнул. Звук долго и гулко катился между лесистыми островами.
Пассажиров было мало, да и те забрались от ветра в единственную каюту под палубой. Только двое сидели на палубных скамейках и, подняв воротники пальто, нахлобучив сырые, разбухшие кепки, дремали.
Над палубой была крыша, но с боков ничто не загораживало вида на Волгу. Ветер качал спасательные круги и лодку, поднятую над кормой.
Пароходик отчалил, погасив на палубе огни.
— Ты отослала маме письмо? — спросил Стогов, облокотись на перила и жадно смотря на уходящий во тьму остров, на черный зубчатый силуэт леса. В лицо ударяли-клевали редкие дождинки.
— Отослала…
— Перетяни ее к себе. Вместе веселее будет.
— Постараюсь, — тихо ответила Катя.
Стогов искал в душе то радостное волнение, которое родилось, когда он стоял на крыльце. Но сейчас оно исчезло: сердце вдруг больно сжалось при виде уходящего берега.
— Вдвоем веселее. И легче, — добавил спокойно Стогов.
Пароходик пыхтел в протоках между островами. Тяжелые, темные клубы дыма из широкой трубы сваливались на воду. На палубе была ярко освещена только стеклянная рубка. В ней, как в золотом фонаре, четко виднелась у штурвала девушка-капитан в черной шинели, в черной фуражке, с косами на груди.
Хлюпала, булькала, плескалась вода. С берега наносило запах облетевших тополевых листьев.
— Здесь ветер, дождик брызгает, идем в каюту, — предложила Катя.
— Пускай. Ветер, дождь — пускай, — слабо улыбнулся Стогов.
Катя сдернула перчатку, потом надела и опять сдернула. Неожиданно снова зазвучал над пароходиком, над Волгой голос:
На севере диком стоит одиноко…
Это девушка-капитан включила радио. Концерт Стогова продолжался.
И голос его, и всплески воды, и шум пароходика, и капитан у штурвала, и красные, зеленые огоньки бакенов — все сливалось воедино, представлялось бесконечным, несмолкаемым. И как только Стогов опять почувствовал это, в душе вновь поднялось радостное волнение.
— Ты слышишь? Пою ведь!
Катя, прижав руку к сердцу, улыбалась и кивала.
Дождик и ветер стихли, небо оголилось. Тепло, тишина. Протоки стали стеклянными, литыми, без единой морщинки. Их озарял слабый звездный свет. С островов свешивались деревья, полоскали в струях ветви; шурша, мели по бортам и перилам — сыпали на палубу листву.
— Как твои дела в музыкальной школе?
— Уже освоилась, — очнулась от своих мыслей Катя.
Пахло рекой, рыбой, а от причаленных к берегу плотов тянуло винным запахом намокшей коры и древесины. Пароходик обогнул остров, заплыл в другую протоку. Волны с шумом шлепались на берег. Около самой воды пылал костер. В трепетном зарезе задумчиво сидел охотник с кружкой в руках. У ног его лежал пятнистый вислоухий сеттер. В глубине воды извивалось огненное отражение.
Стогов помахал охотнику и сеттеру.
Пароходик обогнул последний остров — и вдруг перед глазами расстелился широкий простор коренной Волги. Простор был тоже зеркально-гладкий. На горизонте лежало огненное ожерелье Саратова. Лампочки бросали в водную гладь множество светлых столбов, словно город стоял в воде на золотых сваях.
Стогов улыбался и в такт песне постукивал по сырым перилам. Голос катился по водному раздолью.
— Ты за квартиру заплатила? — весело, как показалось Кате, спросил Стогов.
— Вчера.
Песня стихла. Слышались только всплески, могучее движение воды и шум машин, сотрясающих палубу.
«Смелый» причалил к пустому дебаркадеру, матрос спустил зыбкие сходни, и сонные пассажиры сошли на берег.
— Как ты себя чувствуешь? — по старой привычке Катя закрыла шарфом горло Стогова.
— Превосходно. Волга-то наша!.. — слабым, но веселым голосом ответил Стогов.
Они остановились.
Во тьме проступало множество причаленных к берегу моторок, баркасов, плавучих пристаней, небольших пароходиков, стада лодок — точно кандальники, они звенели цепями. Тянулись плоты, виднелись купальни, вышки для прыжков.
Мальчиком Стогов уверял всех, что Волга ночью озорует. Она любит неожиданно броситься шумной волной на эти суденышки. Всех порастолкает. Все начинают колыхаться и стукаться бортами, звякать, лезть на дыбы, злиться. А вода, захлебываясь от радости, отхлынет и звучно плюхает под сходнями, чмокает — целует лодки в борта, урчит возле каждого камня, коряги, что-то болтая веселое. Потом опять подденет плечом пароходики, баржи — играет с ними.
А пароходики, привязанные как пленники, тоскуют и шепчутся, замышляя побег. А вертлявые, как пустые бутылки, лодки ссорятся между собой, дерутся. А ленивые, сонные баржи ворчат — им мешают спать. Они устали.
Множество интересных историй мог рассказать сынишка волжского рыбака. Это мальчишеское у Стогова сохранилось до сих пор.
Приметив, что на Волге, как и прежде, идет своя жизнь, Стогов облегченно сказал:
— Ну вот… а теперь двинемся.
И только когда сели в пустой автобус и замелькали улицы Саратова, Стогов почувствовал тоску.
— Будешь писать родным, передавай от меня большой привет.
В больнице Стогов погладил густые волосы Кати, поцеловал их. Она стояла, беспомощно опустив руки. Хмурая заспанная сестра сердито буркнула:
— Идемте, идемте, больной!
Стогов оглянулся в дверях, помахал платком, как из вагона, и, улыбаясь, сказал:
— Катюша, купи дрова. Зимой они дороже. Береги себя.
Кате почудилось, что муж удаляется, виднеется смутно. Вот он совсем растворился, и только перед глазами ее невыносимо ярко бьется белый платок.
1955У Залесова на глазах слезы. Он обнимает толстую тетю Лизу, гладит ее пышные седые волосы и, заглядывая в насмешливо-умные глаза старухи, шепчет: