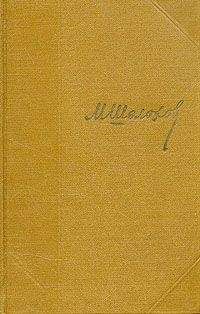— Ну, как?
— Ничего. Воюем.
— Слыхал брехню, вроде дальше границы не хотят казаки выступать… Верно?
— Разговоры… — уклончиво ответил Григорий.
— Что ж это вы, братцы? — как-то отчужденно и растерянно заговорил старик. — Как же так? А у нас старики надеются… Опричь вас кто же Дон-батюшку в защиту возьмет? Уж ежели вы — оборони господь! — не схотите воевать… Да как же это так? Обозные ваши брехали… Смуту сеют, сукины дети!
Вошли в хату. Собрались казаки. Разговор вначале вертелся вокруг хуторских новостей. Дарья, пошептавшись с хозяйкой, развязала сумку с харчами, собрала вечерять.
— Гутарют, будто ты уж с сотенных снятый? — спросил Пантелей Прокофьевич, принаряжая костяной расческой свалявшуюся бороду.
— Взводным я теперь.
Равнодушный ответ Григория кольнул старика. Пантелей Прокофьевич собрал на лбу ложбины, захромал к столу и, суетливо помолившись, вытирая полой чекменька ложку, обиженно спросил:
— Это за что такая немилость? Аль не угодил начальству?
Григорию не хотелось говорить об этом в присутствии казаков, досадливо шевельнул плечом.
— Нового прислали… С образованием.
— Так им и ты служи, сынок! Распроценятся они скоро! Ишь с образованием им приспичило! Меня, мол, за германскую дивствительно образовали, небось побольше иного очкастого знаю!
Старик явно возмущался, а Григорий морщился, искоса поглядывал: не улыбаются ли казаки?
Снижение в должности его не огорчило. Он с радостью передал сотню, понимая, что ответственности за жизнь хуторян нести не будет. Но все же самолюбие его было уязвлено, и отец разговором об этом невольно причинял ему неприятность.
Хозяйка дома ушла на кухню, а Пантелей Прокофьевич, почувствовав поддержку в лице пришедшего хуторянина Богатырева, начал разговор:
— Стал-быть, взаправду мыслишку держите дальше границ не ходить?
Прохор Зыков, часто моргая телячье-ласковыми глазами, молчал, тихо улыбался. Митька Коршунов, сидя на корточках у печки, обжигая пальцы, докуривал цыгарку. Остальные трое казаков сидели и лежали на лавках. На вопрос что-то никто не отвечал. Богатырев горестно махнул рукой.
— Они об этих делах не дюже печалуются, — заговорил он гудящим густым басом. — По них хучь во полюшке травушка не расти…
— А зачем дальше идтить? — лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин. — Зачем идтить-то? У меня вон сироты посля жены остались, а я буду зазря жизню терять…
— Выбьем из казачьей земли — и по домам! — решительно поддержал его другой.
Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закрутил тонкий пушистый ус.
— А по мне, хучь ишо пять лет воевать. Люблю!
— Выхо-ди-и!.. Седлай!.. — закричали со двора.
— Вот видите! — отчаянно воскликнул Ильин. — Видите, отцы! Не успели обсушиться, а там уж — «выходи»! Опять, значит, на позицьи. А вы гутарите: границы! Какие могут быть границы? По домам надо! Замиренья надо добиваться, а вы гутарите…
Тревога оказалась ложной. Григорий, озлобленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул:
— Ты, черт! Ходи прямо!
Пантелей Прокофьевич курил у двери. Пропустив входивших казаков, спросил:
— Чего встомашились?
— Тревога!.. Табун коров за красных сочли.
Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавки шашки и винтовки с подсумками.
Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на баз. Присели на крыльце.
— Хочу погутарить с тобой. — Старик тронул колено Григория, зашептал: — Неделю назад ездил я к Петру. Ихний Двадцать восьмой полк за Калачом зараз… Я, сынок, поджился там неплохо. Петро — он гожий, дюже гожий к хозяйству! Он мне чувал одежи дал, коня, сахару… Конь справный…
— Погоди! — сурово перебил его Григорий, обожженный догадкой. — Ты сюда не за этим заявился?
— А что?
— Как — что?
— Люди ить берут, Гриша…
— Люди! Берут! — не находя слов, с бешенством повторял Григорий. — Своего мало? Хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!..
— Да ты не сепети! — холодно остановил его отец. — Я у тебя не прошу. Мне ничего не надо. Я нынче живу, а завтра ноги вытяну… Ты об себе думай. Скажи на милость, какой богатей нашелся! Дома одна бричка осталась, а он… Да и что ж не взять у энтих, какие к красным подались?.. Грех у них не брать! А дома каждая лычка бы годилась.
— Ты мне оставь это! А нет — я живо провожу отсель! Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителев! — дрожал и задыхался Григорий.
— За это и с сотенных прогнали! — ехидно поддел его отец.
— На черта мне это сдалось! Я и от взвода откажусь!..
— А то чего же! Умен, умен…
С минуту молчали. Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное и обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. «Для этого и Дарью взял, чертяка старый! Грабленое оберегать», — думал он.
— Степан Астахов объявился. Слыхал? — равнодушно начал Пантелей Прокофьевич.
— Как это? — Григорий даже папиросу выронил из рук.
— А так. Оказалось — в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра — видимо-невидимо! На двух подводах привез, — прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. — Аксинью забрал и зараз ушел на службу. Хорошую должность ему дали, етапным комендантом идей-то, никак в Казанской.
— Хлеба много намолотили? — перевел Григорий разговор.
— Четыреста мер.
— Внуки твои как?
— Ого, внуки, брат, герои! Гостинца бы послал.
— Какие с фронта гостинцы! — тоскливо вздохнул Григорий, а в мыслях был около Аксиньи и Степана.
— Винтовкой не разживусь у тебя? Нету лишней?
— На что тебе?
— Для дому. И от зверя и от худого человека. На всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. Везли, — я и взял.
— Возьми в обозе. Этого добра много. — Григорий хмуро улыбнулся. — Ну, иди спи! Мне на заставу идтить.
Наутро часть полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что он пристыдил отца и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи:
— Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради господа-бога!
— Но-но, ты бога оставь, — прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Мелехов. — Ваши мужья у нас тоже, небось, брали бы. Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое — мое — богово», значит — молчок, не жалься!
Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в узлы…
Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади поверх всего лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички, и на укоряющее замечание Дарьи:
— Вы, батенька, и с г… не расстанетесь! — гневно ответил:
— Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка — как из Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы растрепала?
Опухшей от слез хозяйке, затворявшей за ними ворота, сказал добродушно:
— Прощай, бабочка! Не гневайся. Вы себе ишо наживете.
X
Цепь дней… Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения — не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли.
А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлеба́. По дорогам толпы раздетых, трупно-черных от пыли пленных. Идет сотня, копытит дороги, железными подковами мнет хлеба́. В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с красными казаков, дерут плетьми жен и матерей отступников…
Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из памяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после себя следа. Будни войны казались еще скучнее, нежели в прошлую кампанию, быть может — потому, что все изведано было раньше. Да и к самой войне все участники прежней относились пренебрежительно: и размах, и силы, и потери — все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и понуждала по-животному оберегаться.