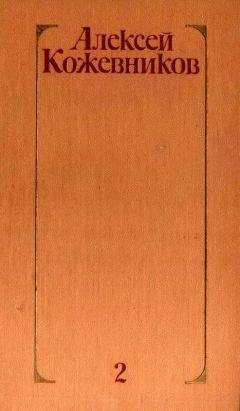Когда осмотрели крайний лесной ряд из конца в конец, Аннычах спросила, куда бы поставить Игреньку, водить его по всей полосе нельзя: потопчет саженцы.
— Не надо ставить. Поезжай домой. Я посмотрю, — сказал Эпчелей. — Защитить саженцы от бурана нельзя, а посмотреть, посчитать, сколько погибло, может кто угодно. Зачем мерзнуть ради этого?
— Не набежали бы кони.
— Прогоню. Кнутом махать пока не разучился. Поезжай!
В вое ветра послышался новый шум, так хорошо знакомый Эпчелею и Аннычах. Они взвились в седла. Из-за курганов вылетел, гонимый ветром, обезумевший табун, курс его лежал на лесную полосу. Аннычах вскрикнула, ударила Игреньку плетью. Конь рванулся, но Эпчелей схватил его за повод, скомандовал девушке: «Туда!» — и показал в сторону.
Она покорно поехала в сторону, а Эпчелей поскакал навстречу табуну. Никакие маневры вроде того, какой проделал Урсанах, были невозможны: табун уже подходил к полосе, оставалось одно — прямым ударом сбить его с курса. Это смертельно опасно для табунщика, потому что удирающие от буранов табуны не лавируют даже перед курганами.
Эпчелей появился перед табуном как скала. Передние кони налетели на него, сбились в груду, и тогда все другие хлынули в обход. Лесная полоса была спасена. Но Эпчелей и Харат пострадали. Табун ударил их так, что они оба упали, наездник в кровь разбил о мерзлую землю правое колено, а Харат — челюсти.
Аннычах проводила табунщика до затишка, где был полевой вагончик, перевязала ему пораненное колено, Харату обмыла кровь, затем поехала обратно на Джирим сказать, куда удрал табун.
Ехала и раздумывала об Эпчелее: «Что случилось с человеком? Ни слова, ни намека о прежнем. Разлюбил меня?.. И вдруг так полюбил мои маленькие леса, что готов за них на смерть. Что случилось?»
Молчаливый, нелюдимый Эпчелей после разрыва с Аннычах стал еще больше молчальником и отшельником. С людьми видался он только по крайней надобности, а когда случались нечаянные встречи, старался сделать их покороче. Ему казалось, что все эти встречи, разговоры подстроены, чтобы посмеяться над ним. А если упоминали Конгарова либо Аннычах, Эпчелей бросал разговор на полуслове. Аннычах по-прежнему была дорога ему и желанна, Конгарова же он люто ненавидел.
Но вот Эпчелей узнал, что она вернулась, замуж не выходила, и у него снова появилась надежда, что и Аннычах может полюбить его.
На третий день буран стих. Степан Прокофьевич с Домной Борисовной выехали домой. Был вечер, теплый и ясный-ясный, точно промытый. Показались далекие холмы, скрываемые большую часть года то пылью, то морозной мутью.
Зима надломилась, веяло первым дыханием весны.
— Давайте посмотрим, что в наших оврагах, — предложил Степан Прокофьевич.
На открытых местах снег лежал лишь кое-где, проседью, как и до бурана. Сделали крюк в Овечью степь. Распадки, овраги замело вровень с краями.
— Надо Мише Кокову выдать хорошую премию, — сказала Домна Борисовна.
— Обязательно, — подхватил Степан Прокофьевич. — Удивительное созданье — человек. К примеру, этот Коков. Маленький, сухонький, головка детская, а какая сообразительность, зоркость, цепкость, точность. И вот представьте: не заметил бы его Иван Титыч, и ушли бы все таланты на «бабки» да «лодыжки». Есть о чем подумать.
— Скорей всего так: бездарных людей нет, все талантливы. Только не все на своем месте, — высказала свою давнюю мысль Домна Борисовна. — Я много работала с детьми. Больных видела, но бездарных, серых — никогда. Все дети, как радуга.
После бурана Иртэн с Аннычах замерили снежным шлейфы — заносы — у лесных полос. Каждая из полос работает по-своему, всякое изменение в полосе вызывает перемену в поведении ветра, снега. Все это очень важно знать и лесоводу и агроному.
Весна. По ночам подмораживает еще и ложится пушистый инеек, но утренники с каждым днем короче и мягче. Кони, линяя, валяются, вычесывают ненужную зимнюю шерсть. Эта шерсть всяких мастей клочьями и паутинками всюду лежит по земле, висит на заборах и стенах, кружится в ветре. Все чаще раздается призывное ржанье. Стал нетерпеливей и громче переступ конских копыт в денниках.
Однажды в тишине ночи разнесся по поселку незнакомый, тонкий, удивленный и немножко обиженный голосок. Он объявлял, что родился первенец нового поколении хакасских скакунов и просит есть. В поселке зажглись огни, началось движение, точно после побудки. Степан Прокофьевич, Орешков и другие отдыхавшие работники конной части пошли проведать новоявленного.
Он сосал матку. Домна Борисовна поддерживала ему голову, чтобы не терял вымя, и приговаривала, оглядываясь на пришедших:
— Все в порядке, все. Можете быть спокойны. Уже ноем. Это мы разбудили вас? Вот мы какие! Никому не дадим засыпáться.
У жердяных базов с утра до вечера людская и конская суматоха: идет последняя в годовом круге работа — отъем табунных жеребят-сосунков от маток. Табуны пропускают через раскол, как при таврении, маток без задержки угоняют в один баз, а жеребят, надев на них уздечки, отводят в другой и привязывают к кормушкам. Привязь — новинка для жеребят, и многие бурно протестуют против нее: рвутся, бьют ногами, ржут.
— Видите, видите, сколько нам лишних хлопот, а жеребятам зряшнего страху. Конь готовится для труда, для обороны, и приручать его надо с самого молоду. Тогда он станет умней вдвое, — внушает Домна Борисовна табунщикам. Затем она переходит к бунтующим жеребятам.
— Сынки-сынки… Дочки-дочки… — уговаривает их то ласково, то строго, негромко насвистывает, осторожно поглаживает. — Довольно буянить. Только себе хуже.
Чтобы не пугать малышей, баз несколько затемнен, работающие говорят вполголоса, одежда на них спокойных цветов — ничего пестрого, яркого.
На пятый день отъемыши уже послушно ходили за поводом, позволяли гладить, чистить себя, давали ногу, к чему привыкают особенно трудно. Тогда их обмерили, привели в порядок им копыта, подстригли гривки, хвосты. Сосунки обратились в стригунков. Они были гораздо крепче и рослей, чем в прежние годы. Раньше для перегонов их отнимали от маток на пятом-шестом месяце, а теперь дали выгулять почти год.
Стригунков сгруппировали по две сотни голов, жеребчиков и кобылок отдельно, и оставили пока в базах. Тоскуя по маткам и не находя их, жеребята начали искать утехи друг у друга, благодаря этому быстро стабунились — перезнакомились, сжились, — чувства сыновней нежности переплавились у них в дружбу. Через неделю после отъема стригунков выпустили в степь самостоятельными табунами. Они уходили с громким, счастливым ржаньем, играя и радуясь свободе, теплому солнцу, резвому ветру, бескрайным далям.
Урсанах, Домна Борисовна, Степан Прокофьевич, Орешков долго задумчиво глядели им вслед.
Когда Степан Прокофьевич вернулся от жердяных базов, у крылечка конторы его встретили незнакомые люди.
— Нет ли у вас какой работенки? — спросил вертлявый человек с маленьким узелком за спиной.
— Работенки нет. Вот работы сколько угодно, хватит и вам, и вашим детям, и внукам и еще останется.
Вертлявый заметил:
— Работа, работенка — что в лоб, что по лбу. Не вижу разницы.
— Огромная. Но об этом погодя. Сначала поговорю с плотником, — и Степан Прокофьевич повернулся к белобрысому усачу, сидевшему на зеленом сундучке, к которому была привязана лучковая пила: — Из вятских?
Усач быстро, по-военному, встал и ответил:
— Рязанский.
— Сам плотник, а в такую даль волочишь станок для пилы. Сунул бы полотно, станок где угодно сделаешь. Вот человек, — кивнул на вертлявого, — попусту не обременяет себя.
— Я всегда работаю хозяйским струментом, — сказал вертлявый. — Да при моих специальностях надо таскать за собой целый воз струменту.
— А я завсегда своим. Притрафишься к нему… — Плотник отвязал пилу и, поглаживая станок, продолжал: — До войны еще сделан. И так пришелся к руке… — Он несколько виновато, в то же время упрямо усмехнулся: судите, смейтесь, что хотите, а все равно не брошу.
Степан Прокофьевич посмотрел у него документы — они были в порядке — и спросил, почему он от Рязани до Хакассии не мог найти работы, теперь же всякого нарасхват. Плотник объяснил, что и не искал, а ехал дальше, к своим односельчанам, но увидел эти места, они понравились ему, и слез. Если еще и для жены найдется работа, он готов обосноваться тут навсегда.
— Найдется. Работы не переделаешь. — Затем Степан Прокофьевич обратился к вертлявому: — Ну, а вы чем владеете?
Тот изобразил себя мастером на все руки: и плотник, и землекоп, и штукатур, и каменщик.
Ответ ему был самый неожиданный:
— Не нужен.
— А кто говорил: работы… И в конторе тоже расписывали: будем строить гидростанцию, мельницу, прудить овраги, сажать лес…