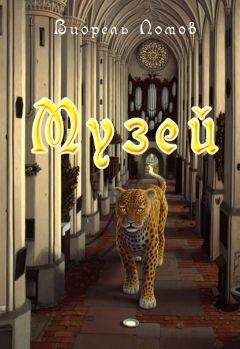Совершенное единообразие подавляет здесь во всем, замораживает педантичность, неотделимую от идеи порядка, вследствие чего вы начинаете ненавидеть то, что, в сущности, заслуживает симпатии. Россия, этот народ-дитя, есть не что иное, как огромная гимназия. Все идет в ней, как в военном училище, с той лишь разницей, что ученики не оканчивают его до самой смерти.
В целом русские, по моему мнению, не расположены к великодушию. Они работают не для того, чтобы добиться полезных для других результатов, но исключительно ради награды. Творческий огонь им неведом, они не знают энтузиазма, создающего все великое. Лишите их таких стимулов, как личная заинтересованность, страх наказания и тщеславие, — и вы отнимите у них всякую способность действовать. В царстве искусства они тоже рабы, несущие службу во дворце.
Русские — первые актеры в мире. Вас забывают, едва успев распрощаться. Все они легкомысленны, живут только настоящим и забывают сегодня то, о чем думали вчера. Они живут и умирают, не замечая серьезных сторон человеческого существования.
Нигде влияние единства образа правления и единства воспитания не сказывается с такой силой, как в России. Все души носят здесь мундир. Климат уничтожает физически слабых, правительство — слабых морально. Выживают только звери по породе и натуры сильные как в добре, так и в зле.
Испорченность в России смешивают с либерализмом. Только крайностями деспотизма можно объяснить царствующую здесь нравственную анархию. Там, где нет законной свободы, всегда есть свобода беззакония. Отвергая право, вы вызываете правонарушение, а отказывая в справедливости, вы открываете двери преступлению. Происходит то же, что с таможней, которая только способствует ввозу разрушительной литературы, потому что никому нет охоты рисковать из-за безобидных книг. В других странах даже бандиты держат слово, и у них имеется свой кодекс чести. Зло торжествует именно тогда, когда оно остается скрытым, в то время как зло разоблаченное уже наполовину уничтожено.
Подъяремное равенство здесь правило, неравенство — исключение, но при режиме полнейшего произвола исключение становится правилом. Между кастами, на которые разделяется население империи, царит ненависть, и я напрасно ищу хваленое равенство, о котором мне столько наговорили.
Дабы правильно оценить трудности политического положения России, должно помнить, что месть народа будет тем более ужасна, что он невежествен и исключительно терпелив. Правительство, ни перед чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее, страшно на вид, чем прочно на самом деле. В народе — гнетущее чувство беспокойства, в армии — невероятное зверство, в администрации — террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви — низкопоклонство и шовинизм, среди знати — лицемерие и ханжество, среди низших классов — невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого — Сибирь.
И с таким немощным телом этот великан, едва вышедший из глубин Азии, силится ныне навалиться всей своей тяжестью на равновесие европейской политики и господствовать на конгрессах западных стран, игнорируя все успехи европейской дипломатии за последние тридцать лет. Наша дипломатия сделалась искренней, но здесь искренность ценят только в других.
Как это ни звучит парадоксально, самодержец всероссийский часто замечает, что он вовсе не так всесилен, как говорят, и с удивлением, в котором он боится сам себе признаться, видит, что власть его имеет предел. Этот предел положен ему бюрократией, силой страшной повсюду, потому что злоупотребление ею именуется любовью к порядку, но особенно страшной в России.
У русских такой печальный и пришибленный вид, что они, вероятно, относятся с одинаковым равнодушием и к своей, и к чужой гибели. Жизнь человеческая не имеет здесь никакой цены. Существование окружено такими стеснениями, что каждый, мне думается, лелеет тайную мечту уехать, уехать куда глаза глядят, но мечте этой не суждено претвориться в жизнь. Дворянам не дают паспортов, у крестьян нет денег, и все остаются на месте, сидят по своим углам с терпением и мужеством отчаяния.
Дело здесь идет не о политической свободе, но о личной независимости, о возможности передвижения и даже о самопроизвольном выражении естественных человеческих чувств. Покой или кнут! — такова дилемма для каждого.
Что за страна! Серые, точно вросшие в землю лачуги деревень, и каждые тридцать-пятьдесят миль — мертвые, будто покинутые жителями, города, тоже придавленные к земле, тоже серые и унылые, где улицы похожи на казармы, выстроенные только для маневров. Вот вам, в сотый раз, Россия, какова она есть.
Зима и смерть, чудится вам, бессменно парят над этой страной. Северное солнце и климат придают могильный оттенок всему окружающему. Спустя несколько недель ужас закрадывается в сердце путешественника. Уж не похоронен ли он заживо, мерещится ему; и он хочет разорвать окутавший его саван, бежать без оглядки с этого сплошного кладбища, которому не видно ни конца ни краю.
— Что это за отряд? — спросил я фельдъегеря.
— Казаки, — был ответ, — конвоируют сосланных в Сибирь преступников.
Люди были закованы в кандалы. Чем ближе мы подъезжали к группе ссыльных и их конвоиров, тем внимательнее наблюдал за мной фельдъегерь. Он усиленно убеждал меня в том, что эти ссыльные — простые уголовные преступники и что между ними нет ни одного политического.
Все приносится в жертву будущего. В этой могильной цитадели мертвые кажутся более свободными, чем живые. Тяжело дышать под немыми сводами. На всем лежит печать уныния и какой-то неуверенности в завтрашнем дне. Терпимость не гарантируется ни общественным мнением, ни государственными законами. Как и все остальное, она является милостью, дарованной одним человеком, который завтра может отнять то, что он дал сегодня.
Если преступников не хватает, их делают. Жертвы произвола могил не имеют. Дети каторжников — сами каторжники. Вся Россия — та же тюрьма и тем более страшная, что она велика и так трудно достигнуть и перейти ее границы.
«Государственные преступники…» Если бы эти страдальцы вышли теперь из-под земли, они поднялись бы как мстящие призраки и привели бы в оцепенение самого деспота, а здание деспотизма было бы потрясено до основания. Все можно защищать красивыми фразами и убедительными доводами. Но, что бы там ни говорили, режим, который нужно поддерживать подобными средствами, есть режим глубоко порочный. Всякий, кто не протестует изо всех сил против режима, делающего возможным подобные факты, является до известной степени его соучастником и соумышленником.
Если бы удалось устроить настоящую революцию силами русского народа, избиение было бы регулярно, как военные экзекуции. Деревни превратились бы в казармы, и организованное убийство, выходя во всеоружии из хат, повело бы наступление стройно, в полном порядке; словом, русские пошли бы на погром от Смоленска до Иркутска.
— Э, голубчик, — усмехнулся Макарцев, — да тут вы просто наивны!
— Любопытно узнать, в чем? — спросил маркиз.
— Вы не понимаете прочности и незыблемости нашей идеологии. Хотя потрясение двадцатого съезда было сильным — но это была сила партии, а не сила реабилитированных из лагерей! Все это легко советовать со стороны, отпускать дешевые смешки. Попробовали бы сами руководить нашей огромной страной!
— Ни в коем случае! — испугался Кюстин. — Я только предполагал, что так будет, а теперь говорю: меня удручает то, что вижу. Читайте дальше, месье!
Современное политическое положение в России можно определить в нескольких словах: это страна, в которой правительство говорит что хочет, потому что оно одно имеет право говорить. Так, правительство говорит: «Вот вам закон — повинуйтесь», но молчаливое соглашение заинтересованных сторон сводит на нет те его статьи, применение которых было бы вопиющей несправедливостью. Таким образом, ловкость и смышленость подданных исправляет грубые жестокие ошибки власти.
Обычное русское лукавство: закон обнародован, и ему повинуются… на бумаге. Этого правительству довольно. По этому образчику деспотического мошенничества вы можете судить о том, как низко здесь ценят правдивость и как нельзя верить высокопарным фразам о долге и патриотических чувствах. Чтобы жить в России, скрывать свои мысли недостаточно — нужно уметь притворяться. Первое — полезно, второе необходимо.
К исторической истине в России питают не больше уважения, чем к святости клятвы. Подлинность камня здесь так же невозможно установить, как и достоверность устного или письменного слова. В уменье подделать работу времени русские не знают себе соперников. Как выскочки, у которых нет прошлого, они эфемерными декорациями заменяют то, что по самой своей природе внушает мысль о длительном существовании. Мания смотров, парадов и маневров имеет в России характер повальной болезни.