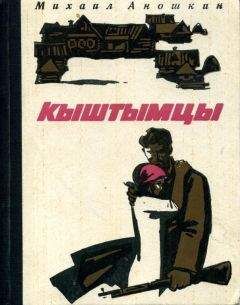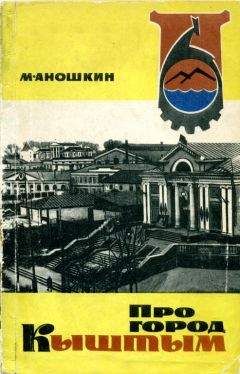— Конечно, нелегкое…
— Сейчас Григорий Николаевич начнет бить себя в грудь, — вмешался в разговор Дукат. — Зачем, скажет, власть брали… А, по-моему, надо действовать по-революционному — немедленно очистить Кыштым от контры и ее прихлебателей.
— Что ты предлагаешь? — спросил Баланцов.
— Арестовать и никаких поблажек!
Бомбу вроде бросил Дукат — все вдруг вздыбились, закричали, не слушая друг друга. Дверь отворилась, и на пороге застыла коренастая фигура Мыларщикова. Первым его заметил Швейкин, потом Баланцов, и вот к двери обратили свои взоры все участники собрания. Разговоры стихли…
…Мыларщиков с Кузьмой вернулись с Высокого переезда под вечер. Завели коней во двор, расседлали, и Михаил Иванович сказал:
— Пить им пока не давай, пусть охолонут малость. Меня подожди, не уходи никуда, нужен будешь. И держи язык за зубами.
Через минуту Мыларщиков входил во двор к Сериковым. Видел, как Глаша отодвинула задергушку — думала, Иван возвращается. Открыл дверь в избу и, шагнув через порог, спросил:
— Могу?
— Заходь, заходь, Михаил Иваныч. Вперед проходи.
— Грязный я, можно и здесь, — Мыларщиков пододвинул к двери табуретку и непривычно сурово посмотрел на Глашу. Она поежилась — чего это он смотрит на нее так странно? Может, лихого чего задумал? В предчувствии беды заныло сердце. Господи, да что такое стряслось — не видела еще таким суровым Мыларщикова.
— Где Иван?
— В Катеринбург уехал.
— Зачем?
— Лука попросил.
Мыларщиков ерзнул на табурете, на прочность проверял, что ли? Табуретка не развалилась. Михаил Иванович строго потребовал:
— Рассказывай!
— А чо рассказывать?
— По какой надобности Лука послал его в Екатеринбург?
— Не знаю. Намедни заглянул Лука Самсоныч. Говорит, надобно мне с Иваном с глазу на глаз покалякать. Закрылись в горнице, а чего там баяли — не ведаю.
— Дальше.
— Ну ушел Лука Самсоныч, а Ваня позвал меня и говорит: сгоняю я, Глань, денька на два в Катеринбург. Лука просит, пуд сеянки обещал да еще деньжат.
— За что?
— Михаил Иваныч, да не сказал он мне ничего. Думаю, вернется, тогда и поспрошаю. Да не томи ты мою душу! Что случилось?
Мыларщиков тяжело вздохнул и покачал головой.
— В беду попал твой Ванька. Говорил же я ему — не вяжись с Батызом. Не знаю, останется ли еще жив, Иван-то…
— Окстись! — испуганно замахала руками Глаша, а сама попятилась от Мыларщикова, как от чумного. — Окстись! Чего мелешь-то?
— Ничего не мелю, Гланя. Убили твоего Ваньку, да слава богу не до смерти.
— Не-ет! — закричала Глаша. — Нет! Нет!
Она встала перед ним на колени, схватила тяжелые руки его и, давясь слезами, умоляла:
— Ну скажи — неправда, ну скажи, Михаил Иваныч, миленький, скажи…
— В вагоне ударили железякой по голове и сбросили с поезда, — глухо обронил он.
Глаша уткнулась лицом в его широкие жесткие ладони, и он ощутил на них ее жгучие слезы. Ах, Иван, Иван, что ты наделал? Куда сунул свою голову? Глаша слышала, словно издалека, глуховатый голос Мыларщикова:
— Подобрал его путевой обходчик. Увезли твоего Ивана в больницу. Живой, но без памяти. Перестань, Глань, плакать, слезами горю не поможешь. Попытайся припомнить — зачем посылал Лука Ивана в Катеринбург?
— Не знаю, — машинально ответила она.
— Припомни, Глань, ты же понимаешь — это очень надо, ну прямо позарез надо.
Глаша поднялась, скорбная, пришибленная, сама не своя. Будто вынули у нее душу, и тело обмякло, стало безвольным. Шаркая, побрела в горницу. Дала волю слезам. Михаил Иванович слышал ее надсадные всхлипы, но не шелохнулся — пусть проплачется…
Глаша появилась минут через пять и, глядя поверх его головы отрешенными глазами, проговорила тихо, с безразличием, испугавшим Мыларщикова:
— Я проводила его до ворот, дальше не пустил. А Лука вынес ему баул. Ваня еще спросил, я хорошо слышала: «Чо у тебя тут напихано? Что-то шибко тяжело».
— А Лука?
— Не расслышала. У них пес затявкал.
— Глань, может, пойдем к нам?
Она отрицательно покачала головой, все еще глядя безразлично куда-то в одну точку.
— Пойдем, Глань?
— Нет! — вдруг закричала она. — Нет! Пойдите вы все прочь! Ироды! Убили! — и она затряслась в истерике. Михаил Иванович еле отпоил ее водой, уложил в постель, прикрыв Ивановым полушубком.
— Не изводи себя, как-нибудь обернется.
Но она отвернулась к стенке.
Мыларщиков вышел из избы на цыпочках, тихо прикрыл дверь. Тоне сказал, чтобы не слышали Назарка с Васяткой:
— Кабы Гланька не помешалась али не сотворила с собой чего. Ты уж пригляди.
— А чо с ней?
— Ивана чуть не укокошили.
— Да ты что!? Да это как же так!?
Услышав историю, приключившуюся с Сериковым, Тоня со злой решительностью поджала губы, в глазах вспыхнули огоньки.
— Ах он душегуб распроклятый! Ах он поганая душа! Да я ему сейчас глаза выцарапаю, гужеед несчастный!
— Не разоряйся больно-то, детишки же. А потом — Батыз ведь и руки умоет: мол, я-то при чем?
— Все одно — он убивец!
— Он не он, тут твое дело десятое, без тебя разберемся.
— Это пошто же десятое? Али мне Гланька чужая? Да она мне заместо сестры родной. А Лука будет ходить хоть бы хны, человека со света сжил и будто так и надо!?
— Хватит! — нахмурил брови Михаил Иванович. — Не бабье это дело. И чтоб у меня ни-ни! А то всю обедню испортишь!
Заспешил в Совет, Кузьме наказал:
— С батятинского дома глаз не спускать. Чтоб тебе все видно было, а тебя нет. Дошло?
— Дошло, Михаил Иваныч.
…— Чего встал в двери и не заходишь? — спросил Швейкин Мыларщикова. Тот прошел вперед при общем настороженном молчании, устало опустился на стул рядом с Тимониным. По всему видно, не намеревался ни о чем рассказывать. Поэтому, когда Борис Евгеньевич сказал: — Продолжим, товарищи! — Дукат заявил:
— Возможно, товарищ Мыларщиков объяснит?
Михаил Иванович взглянул на Швейкина, молча спрашивая его: отвечать или не отвечать? Борис Евгеньевич слегка наклонил курчавую голову. Мыларщиков встал и объяснил:
— Путевой обходчик на Высоком переезде подобрал мужика — с поезда сбросили. А тот мужик оказался моим соседом.
— Вот так, по-соседски, — усмехнулся Дукат. — А сосед не иначе забулдыга. И сведем потихонечку революцию к обывательским мелочам.
— Злой ты, однако, Юлий Александрович, — заметил Тимонин. — Ты хотя выслушай человека до конца.
— Может, это и по-соседски, — согласился Мыларщиков. — Только мой сосед, товарищ Дукат, не забулдыга, не надо кидаться словами. Он солдат, с войны еле живой вернулся. Так вот, к вашему сведению, у меня есть еще один сосед, вы его все знаете — барышник Лука Батятин. Оба они мои соседи, и по-соседски мне приходится заниматься обоими.
— Ну не интересно это, товарищи, — поморщился Дукат.
— Ты же сам просил! Я могу и сесть.
— Продолжай, — твердо сказал Швейкин. — А ты, Юлий Александрович, наберись терпения.
— Намедни контрики гуртовались на Нижнем, собирали золото, и такая петрушка, товарищи, что оба мои соседа руку тут приложили. Батятин взялся золото переправить в Катеринбург, выбрал для этого солдата Серикова, пообещал ему манну с неба. А Ваньша Сериков войну провел в окопах, капиталов не накопил, с хлеба на воду перебивается. И клюнул на приманку: Батятин пообещал ему хорошо заплатить. А в дороге его кто-то ограбил. И золото уплыло!
— Не иначе Батыз все и подстроил, — высказался Баланцов. — Хитрый лис.
— А кто их ведает, — сказал Алексей Савельевич. — Либо так, либо не так. Может, разбойники, может, зеленые балуются, всякие там дезертиры что-то пошаливать стали.
— Не будем гадать, товарищи, — возразил Швейкин. — Ясно другое — контрреволюция поднимает голову. Для нас урок. Пусть Мыларщиков до конца доведет это дело. Товарищ Рожков, сколько у тебя штыков?
— Какие там штыки! Слезы — сорок бердан да тридцать винтовок.
— Красногвардейцы на казарменном?
— Не все, Борис Евгеньевич. Только двадцать.
— Пусть остаются. Сам переходи на казарменное.
— Слушаюсь!
— Остальных на охрану заводов. Особенно динамитного. Смотри, Рожков, за динамитный головой отвечаешь.
— Вы извините меня, товарищи, — сказал Дукат. — Но мы не решили главного — что делать с заговорщиками? Я внес предложение: всех арестовать и начать следствие. Прошу поставить на голосование.
— Я тоже считаю: сидеть сложа руки преступно, — заявил Тимонин. — Но сразу прибегать к репрессиям? По-моему, нельзя. Нужно пойти к народу и честно рассказать ему о положении в Кыштымском заводе. По-большевистски честно. И нас поймут.
— Пузанов поймет — держи карман шире! — возразил Дукат.
— Пузанов силен не сам по себе, один он ничто, а вот когда за ним обыватель потянется — бед натворить может, — сказал Тимонин.