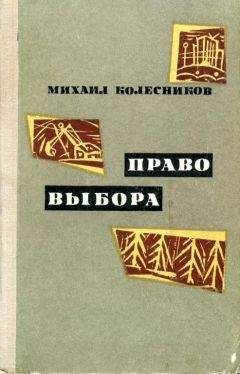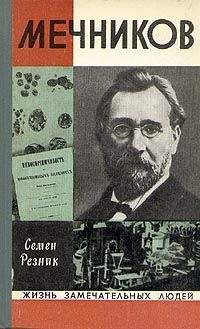Золотов говорит с трибуны. Четкие, лаконичные формулировки. В них нет суесловия, дипломатического лицемерия во имя гостей с различными убеждениями. Жестокой логикой фактов он ломает чужие убеждения, он говорит то, что думает. А это главное: говорить то, что думаешь. Все остальное — рабство, приспособление.
И даже не это основное в словах Золотова: тут суровый оптимизм советской науки. Золотов — лишь представитель. За его плечами угадываются шеренги. В одной из них я.
И вот мы снова у себя дома, в нашем заколдованном городке. Синие и малиновые сугробы, заснеженные деревья, тишина.
Взъерошенный Ардашин сидит у «Ники Самофракийской». Смущенно здоровается, протягивает какие-то листки.
— Что здесь?
— Новая идея. Тут, по-моему, что-то есть.
Он начинает объяснять, а я стою и слушаю. А потом мы вместе чертим, лихорадочно вычисляем.
— Это не просто новая идея, это гениальная идея, Олег! — кричу я. — Это же переворот, конец нашим мучениям. Вариант Вишнякова отпадает начисто. По вашей блок-схеме мы получим наивысший коэффициент полезного действия, уж не говорю об оригинальности самого принципа регулирования…
— Да, но здесь лишь черновой набросок, — слабо возражает Ардашин. — Я не в состоянии подвести под все это математические расчеты.
— Вы правы, работа предстоит еще немалая. Но главное — найден принцип! Расчеты беру на себя. Как жаль, что нет ни Бочарова, ни Вишнякова. К Вишнякову следовало бы наведаться в стационар, да теперь где уж…
Сразу усаживаюсь за расчеты. Наполеон написал на египетских пирамидах:
«Вперед, ослы и ученые!»
На Ардашина смотрю с нежностью. «Вундеркинд» оправдал-таки себя. Гений есть гений, и с этим уж ничего не поделаешь. Всех переплюнул. Какая глубина и изящность мышления! В сравнении с ардашинской схема Вишнякова кажется громоздкой, неуклюжей.
А Олег будто бы и не рад, что его осенило. Сидит сумрачный, с поджатыми губами. Я сразу же хотел доложить о новом варианте Подымахову, но Ардашин упросил не докладывать до полного завершения расчетов: а вдруг где-нибудь кроется ошибка! Олег все не верит в победу, не верит в то, что на него надвигается настоящая слава.
Я понимаю Ардашина: еще сегодня он никому не известный молодой человек, рядовой физик, а завтра его имя появится в научных журналах, «принцип Ардашина» войдет в историю науки и техники, о нем узнают ученые всех стран. Олег словно боится спугнуть счастье, он не уверен в себе и растерян.
Мы почти не разговариваем. А если я затеваю разговор, он мягко уклоняется, начинает болтать о всяких пустяках.
Целую неделю не выползаю из кабинета. Чай, кофе, чай, кофе… Творческий столбняк. Подгоняет подспудная мысль: доказать Подымахову! «Гиганты мысли» не даром ели хлеб. Подымахов не ошибался, включив нас в «думающую группу».
Если говорить откровенно, идея Ардашина далека от совершенства. Это принцип, только принцип. Пусть даже гениальный. «Ньютоново яблоко»; оно превратится в теорию тяготения, когда мы подведем под него прочный математический фундамент. Да и что мог сделать Олег за те три дня, пока я присутствовал на конференции? Его осенило — и все тут.
И я стараюсь, подвожу под принцип фундамент из цифр и формул.
Я рад, что именно Ардашину пришла в голову плодотворная мысль. Он скромен, фанатичен, когда дело касается науки. Он мечтает стать большим ученым и все время страдает от неудовлетворенности собой. Теперь перед ним откроется широкая дорога, и я счастлив, что всеми силами способствую продвижению молодого человека. Ведь на мою долю выпала чисто механическая работа: обосновать.
Пытаюсь представить себе Олега в недалеком будущем: его раскованный ум делает одно открытие за другим; теоретические работы, докторская диссертация, самостоятельный участок исследований. Ну, а если мне суждено стать директором института, я найду достойное применение способностям растущего талантливого ученого. Со временем он может сделаться моим заместителем, а потом — сменить меня…
По всей видимости, Цапкин прав: Ньютона из меня никогда не выйдет. Принцип ясен, а при расчетах не могу свести концы с концами. И это раздражает. Будто бы спешите на самолет, а перед вами возникают все новые и новые преграды — проезд закрыт, нет левого поворота, наконец, шофер объявляет: кончился бензин. И вот я мечусь по кабинету, мечусь по квартире, всю ночь ворочаюсь на постели, встаю с распухшей головой. Я уже почти ничего не соображаю.
Марина присылает записку:
«Милый Алексей Антонович, есть два билета на «Брак по-итальянски».
Да, да, конечно. Нужно сделать перерыв. Марине будет приятно. Кладу записку на самое видное место, смотрю на нее с нежностью. Сколько жизненного восторга в коротких строчках!.. Я увлечен. Складываю исписанные листы стопкой. Еще одна стопка. Листы по всему столу. Записка Марины погребена под ворохом бумаг. Обнаруживаю записку через три дня. О черт! Нужно хотя бы извиниться… Но вызывает Подымахов на совещание. Подгоняет. Другие отделы, оказывается, почти всё завершили.
И снова сижу, обхватив голову руками. Нужно, нужно подвести математический фундамент под основное, построить математическую модель. А доскональной разработкой займутся другие.
Работу математика можно уподобить работе композитора. Уловив основную мелодию того или иного физического процесса, мы стремимся запечатлеть ее на бумаге нашими нотными знаками — формулами. Есть процессы, которые невозможно объяснить, так же как нельзя объяснить музыку простыми человеческими словами. Математические расчеты — особая форма мышления.
Я понимаю Эйлера, который ослеп, увлекшись сложнейшими вычислениями. И хотя я никогда не был математиком в полном значении этого слова, всегда с радостным волнением берусь за расчеты. Шаг за шагом укладываю неподатливую, хаотичную в своей основе мысль в строгие формулы. Увлекаюсь все больше и больше. И вот уже ничего не существует, кроме логической игры. Могут погибнуть миры, а формула останется, ибо в ней навечно выражены соотношения, справедливые для любого уголка природы. Наш мир, мир математика, намного богаче мира композитора, богаче любого другого мира, так как мы выражаем все: не только звуковое колебание, но и колебание всей необъятной вселенной в целом. На наших формулах держатся стальные мосты, это наши формулы удерживают спутники на орбитах, ведут ракеты по заданному курсу… Нам доступно чувство красоты и изящества в таких сферах, куда не залетал ни один поэт. В математике застыло движение.
Было время, когда я старался привить понимание этой красоты Марине. Она оказалась способной ученицей. И все же к математике относилась с холодком, считая ее лишь орудием познания, и ничем больше. «Математический романтизм» не привился. Вычисления всегда казались ей делом нудным, некой злой необходимостью. В противоположность своему отцу она никогда не переоценивала формальный метод, считая его в большей степени спекулятивным. «Мыслимо, — значит, возможно», — повторял я. «Домовых тоже придумали», — отшучивалась она. То, что у Марины незаурядные математические способности, я открыл давно. Ее решения всегда отличались почти гениальной простотой, а следовательно, изяществом. Ей все давалось легко. Иногда ее интуиция граничила с неким математическим ясновидением и повергала меня в бурную радость. То были самые счастливые мгновения. Я предрекал Марине великое будущее, я был влюблен в нее, как можно быть влюбленным в чудо. Но она почему-то не пошла по той дороге, которую указал я, а занялась, на мой взгляд, вещами скучными, грубо материальными. И я часто думаю, что мой долг вернуть Марину в область высоких абстракций. Я этого добьюсь в конце концов…
Без стука открывается дверь, входит редактор «Научного бюллетеня» Коконин. Он держит за руку Ардашина. Олег вырывается. У него виноватый вид. Коконина, шумного, громкоголосого парня, недолюбливают все руководители. Коконин материалы для своего «Бюллетеня» буквально выколачивает из каждого. Он не понимает слов: «некогда», «занят», «как-нибудь в другой раз». Он-то знает, что «другого раза» не будет. Отмахнуться от него невозможно. Он как назойливо жужжащая муха. «Хотя бы три строчки, профессор. Самую суть. Для истории и потомства…»
Сейчас он что-то громко объясняет, но я ровным счетом ничего не понимаю.
— Простите, Алексей Антонович, — говорит Ардашин. — Я же ему объяснял, что вы очень заняты. Но разве от него так просто отделаешься? Ему, видите ли, для завтрашнего номера нужна информация о новом принципе регулирования. Самую суть.
— Вот и напишите.
Олег переминается с ноги на ногу.
— Я не могу ничего написать. Неудобно ведь. Что обо мне подумают товарищи? Не я руковожу работами. А он уцепился — и ни на шаг…