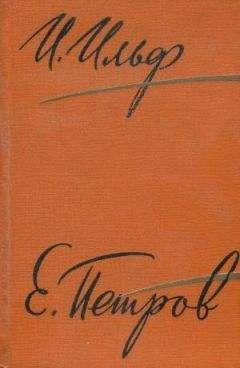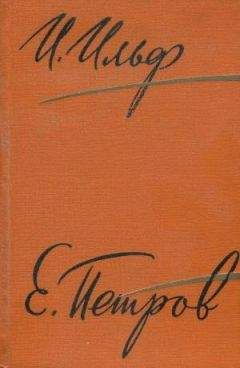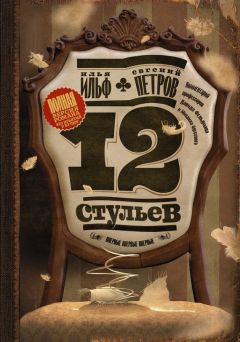И он действительно заносит в книжечку какие-то каракули. Потом прощается с Мироном Нероновичем и уходит. Книг он, конечно, не отдаст никогда.
Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры, и вор, задыхаясь, дает стрекача.
Книжный вор движется медленно и уверенно. За ним никто не погонится. Его никто не остановит на улице, никто не спросит сурово:
– Ты где взял эти книги? Немедленно неси назад, не то убью.
И это величайшая несправедливость. Людей, выпивающих наш чай, людей, похищающих наши сардинки и уносящих наши книги, надо наказывать. Нужен закон против книжных воров, закон, как говорится, сурово наказующий.
Записные книжки (1925–1937)*
Как забыть, Самарканд, твои червонные вечера, твои пирамидальные тополя, немого нищего, целующего поданную медную монету.
Ярко-зеленые женские халаты.
Персидские глаза Мухадам. Длинное до земли платье.
Над школой, распустив крылья, летит коршун.
С паранджи свисают длинные, у самой земли соединенные, хвосты.
Город замощен кирпичом.
Хозяин чайханы с огромным зобом.
…На уличках ишаки и лошади текут потоком. На Регистане пыль и гром. Возводят леса, реставрируют Шир-Дор. Уныло стонет нищий. Под сводом Улуг-Бег стол накрыт красным сукном – будет публичный суд.
На чалме поднос, на нем лепешки. Ослик тащит привязанные к его бокам молодые, очищенные от коры, стволы деревьев…
Женщины ходят все больше в голубоватых и синеватых паранджах. Только одну я видел в черной. Это персиянка. Одна была в серой парандже. Заслонив лицо от солнца портфелем, едет в зеленой тюбетейке ответственный.
Ишаков постукивают по шее толстой прямой веткой. Верх экипажа откинут назад и накрыт полотняным чехлом с нашитыми редко на нем красными звездами – это, кажется, экипаж Совнаркома. Нищий на Регистане сидит под самодельным зонтиком – на две перекрещенные планки нацеплено мешочное полотно.
Рынок. Палевые кувшины – гончарный ряд. Совершенно невыносимое по запаху коническое мыло. Здание, изнутри завешанное тюбетейками. В темноту его въезжают на ишаках и лошадях. Кипы мануфактуры стоят корешками, как книги. Женщины проходят скромно и молча. Бухарские еврейки паранджи не носят, но от мусульман закрываются халатом (надет на голову). Автомобили здесь редки и необычны. Женщина в белом. Вообще они в незаметных цветах. Спадают кожаные калоши, обнажая зеленые задники ичигов. На базаре мальчик продает мухоморы. Он долго и громко торгуется с хозяином трех корзин, наполненных мухами и абрикосами. Наконец хозяин берет листы. Сразу собираются люди посмотреть, как завязнет первая муха. Муха попадает, и большинство удовлетворенно расходятся. Мальчик идет дальше. Погибшая муха замещается тысячами других. Погибающая густо звенит.
В лавочках стучат молотки, выковывают подковки для калош, набивают гвоздиками на калоши и сбоку медные украшения-пластиночки. Красят в две краски (зеленое и фиолетовое кольцо) детские жестяные ведерки. К узбеку, присевшему наземь с сырой кожей (еще с рогами), прилипли целые кусты мух… Летит по рынку фаэтон с двумя завернутыми женщинами. Летает по небу местный ассенизационный обоз – коршун.
Узбеки любят полежать у арыков. Подстелет коврик и лежит по своему усмотрению. Молодые узбеки рядами идут через базар. Они прорезают старый рынок клином…
Мальчик с бритой головой и косичками.
Я уезжал из Самарканда ночью, которая расстраивает, трогает человека и берет его шутя. Фонарики экипажа, тишина, мягкое качанье, поблекшее, чудесное небо и половина луны, сцепившейся с прохожим облаком. Пыль смирно лежала в темноте, все трещало, казалось, трещало небо (цикады?). Это все было очень трогательно. Мухадам, когда говорила, вытягивала белую нитку из заплаты на своем красном в белую клетку платье.
У Владимира Яковлевича я обитал под ореховым деревом с крупными листьями. Керосиновый самовар сверкал своим слюдяным окошечком. Он никогда не снимал шапки. Когда его укусила в язык оса и ему было плохо, он снял шапку, но накинул на голову платок. Он худ и говорит медленно и всегда серьезно.
Коричневые почки, величиной и видом похожие на помидоры. Старик на самаркандском базаре предлагал их.
Маленький самаркандский вокзал с его зеленоватой и толстой изразцовой печью лежит далеко (6 верст) от города.
Долину Зеравшана проехали ночью. Утром успел глазом захватить какие-то горы – низкие и желтые на первом плане и высокие розово-фиолетовые позади. Станция Голодная степь. Дехкане в овечьих мономаховых шапках двух цветов – верх коричневый, низ из черной длинной закрученной шерсти.
Ташкент. Хороша его европейская часть. Старый город несравним с самаркандским. Русские улицы обсажены великолепными тополями и карагачами.
К Ташкенту мы ехали через абрикосовые и яблочные, геометрически расположенные сады. Мимо молодых узких тополей. Мимо зеркальных рисовых полей. Мимо вагонов, груженных баранами.
Узбек продает розы. Большой медный поднос, полный роз. Цветник на подносе.
Куриный базар. Кур не видно, зато сколько угодно штанов и местной рулетки. Это круглый стол, утыканный по всему краю гвоздями. Снизу крутится штуковина с гусиным пером. Стол завален собаками и зубными порошками. Можно выиграть и медный самовар. А можно и не выиграть.
Навострил свои карандаши и пошел в Красно-Восточные мастерские.
Вместе со мной пришли на экскурсию ученики 3-месячных профкурсов Среднеазиатского бюро ВЦСПС – узбеки, таджики, туркмены, уйгуры. Курсы готовят низовых профработников для кишлаков. Оттуда же (из кишлаков) и большинство курсантов.
Инструментальная. Ремонт и выделка инструментов. Шумит пневматическое сверло. Курсантка держит чадру в руках. Фрезерные станки. На насекальном станке производится насечка круглого напильника.
Станок для насечки плоских напильников. Делаются толстые, квадратные бруски. Молодой рабочий с предохранительными очками на лбу смущен и улыбается, что на него так смотрят. Сверла и сверла делаются. На стене висят рисунки скорой помощи. При случае могут починить для управления и пишущую машинку.
Кипчак. Хадырбаев Алтымбаш. С 12 лет работал батраком. Родители тоже были батраками. Пастухом был. Нигде не учился. 1 мая поступил на курсы. Послал Рабземлес. В 18-м году организовал коллективное хозяйство. От баев отобрали землю. В коммуне были батраки, красноармейцы и рабочие. Это было до 19-го года.
В 19-м году в Ташкенте был Краевой комиссариат земледелия. Бай Хушбигиев сделался комиссаром. Он потворствовал баям, возвращал землю, выгонял артели и давал землю отдельным лицам. Хадырбаев в феврале 19-го года приехал в Ташкент и обратился к начальнику особого отдела. По материалам Хадырбаева собрали собранье в три тысячи человек. На собрании был Куйбышев. Хадырбаев, оборванный, выступил с часовой речью и разоблачениями. Хушбигиева на другой день убрали и посадили.
[Хадырбаев] остался работать в городе. В сентябре 19-го года поехал в Фергану для борьбы с басмачами. Участвовал в съезде народов Востока.
Развод с мужем. Ей было 10 лет, и 3 года она жила с 45-летним мужем, который купил ее у матери во время голода за небольшую сумму.
Страшноватая ночь в гостинице. Одеяла нет, вместо подушки дается наволочка. Цыганки в черных митрах и цыганята. Девочка с зеленой серьгой в носу, и другая – с продетым через бок носа большим кольцом с украшениями. У них нет ни квартиры, ни революции, ни газеты. Цыганки все в перстнях и браслетах. Серебро и большие камни. У девочек на груди большая серебряная медаль. Велики глаза, черны лица и курносы носы. Толпа спорит из-за них. «У них форма такая». Симфония черных и фиолетовых цветов Руки татуированы темно-синими мелкими и часто поставленными рисунками. Цыган в халате (фиолетовые полоски) и кремовой феске. Небольшая борода и усы.
За Джагалашем по всему горизонту дым, как от взрывов снарядов, – горит камыш. По камышу ползет молодая саранча, еще летать не может, но иногда на четверть аршина обкладывает путь – приходится высылать паровозы для очистки пути. Колеса буксуют, саранча жирная.
В 10.20 выехал из Москвы в Нижний. Огненный Курский вокзал. Ревущие дачники садятся в последний поезд. Они бегут от марсиан. Поезд проходит бревенчатый Рогожский район и погружается в ночь. Тепло и темно, как между ладонями.
Утро. На станции Сейша машинист хватает тонкий жезл, как шпагу.