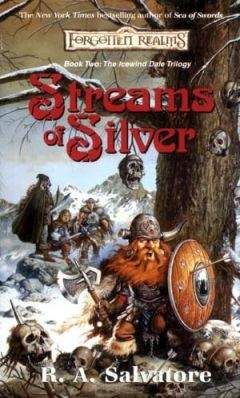Над молчаливой бухтой отчетливо прозвучал скрежет разрываемого металла, я тут же тяжелый, опрокидывающий небо взрыв прокатился над портом.
Танкер, переламываясь посредине, погружался в воду с поднятым вверх килем. Языки пламени вырывались над водой, клонились друг к другу, пригасая под оседающим плотным облаком пара, сгоревшего топлива.
Далекое эхо трижды возвращалось назад, постепенно затихая, переходя в гул пятерки боевых машин, уходивших от цели в стропам строю. Они, казалось, уносили на своих крыльях и долю сержанта Катеринина, и долю капитана Ратникова в общий салютный залп Победы.
Сержант Иволгин видел этого немца. Каков он — высок или мал ростом, красив или безобразен, брюнет или блондин, — сказать не мог, но не это было важным на войне. Иволгин видел, как хладнокровно, расчетливо вел фашист огонь и узнавал в нем бывалого, матерого вояку.
Этот по каске над траншеей не стрелял, а спокойно ждал, когда батальон перевалит через бруствер, дойдет до середины поля. А тогда начинал бить. И стрелял, сволочь, отлично: вел ствол пулемета на уровне груди — чтоб сразу наповал. В кем было больше от убийцы, чем от солдата.
А кругом голое поле — ни кустика, ни ямочки. Лошадиного копытца не найдешь, не то чтобы куда спрятаться. И окопаться невозможно — земля еще мерзлая, только сверху чуть подтаяла.
Этот дот был у них замком обороны: немного выдвинут вперед от траншей, приподнят на холмике.
— Свет ему, собаке, клином сошелся. Кругом обрезали, а он все воюет. — Сержант смотрел в сторону дота, и на его землистом лице с выгоревшими, белесыми ресницами промелькнула досада. Третий год бывший животновод воевал, дослужился до сержанта, но вид оставался у него самый мирный: простодушные голубые глаза, на широком лице курносый нос, неторопливая речь. — А он все воюет, говорю…
Иволгин ждал, что отзовется его сосед — худой, с бледными, впалыми щеками рядовой Капустин, но тот молчал, сосредоточенно подшивая задник сапога.
Иволгин стал думать о том, что немало крови прольется, пока они возьмут этот проклятый дот. Нельзя его брать поднятой цепью, нельзя — весь батальон поляжет на этом поле. И так за три месяца боев осталась от него половина. А сейчас умирать ох как не хочется, война-то уже подходит к концу.
Их батальон в составе 3-го Белорусского фронта штурмовал город-крепость Кенигсберг. Небольшой участок — по фронту, может, с полкилометра, — по каждая линия обороны бралась с тяжелыми боями.
Немцы не отходили. Они знали, что за ними есть следующая линия, но она не для них. Если начнут отступать, их расстреляют свои. Война шла уже на их землях, и они не сдавались. Бетонированные траншеи, просторные блиндажи, мощные, с железобетонными перекрытиями, доты становились их могилами.
Батальон брал последнюю линию обороны.
Иволгин стоял недалеко от комбата и слышал, как тот попросил закурить. Это было плохим признаком: комбат никогда не курил. Он неумело скручивал цигарку, да так и не скрутил — разорвалась газета.
Над траншеями немцев показались штурмовики — наши «ИЛы».
Комбат хлопком — ладонь о ладонь — стряхнул табак, громко скомандовал:
— Батальо-о-он! К атаке!
Иволгин надел каску, туго затянул ремешок. Капустин стоял уже наготове, положив перед собой автомат.
— Батальо-о-он! За мно-о-ой!
Комбат легко перемахнул через бруствер, встал над траншеей с пистолетом в руке.
Его любили. Он никогда не посылал напрасно под нули, а когда батальону приходилось особенно туго, сам шел в цепь. Может, и нарушал в чем-то законы военного искусства, но таким он был человеком.
Комбат, пригнувшись, бежал впереди — высокий, статный, туго перетянутый портупеей. Иволгин не отставал, хотя это и давалось ему не легко. Сержанту перевалило за сорок, и здоровье было не то, а после контузии и вовсе плохи дела стали…
Раскисшая земля чавкала под сапогами, влажный воздух спирал дыхание, тесным жгутом стягивала грудь прилипшая гимнастерка.
Немцы в траншеях пока молчали — им не давали поднять головы пикировавшие друг за другом звенья штурмовиков. Но тот, в доте, чувствовал себя, видимо, вольготно. К глухим коротким очередям с воздуха примешивался близкий стук немецкого пулемета.
Иволгин видел, как упал комбат: будто напоролся с ходу плечом на железное острие, полуобернулся влево, опрокидываясь навзничь.
«Комбата убило, комбата убило», — пронеслось по цепи, и батальон залег. Не пошла дальше без него атака. Бойцы отползали в траншею, оставляя после себя извилистые следы.
— Товарищ комбат, надо отходить, — потянул сержант раненого командира за рукав.
— Придется, браток. — Опираясь на левый локоть, комбат пополз к своим.
Чуть поодаль, сзади него, молча возвращались Иволгин и Капустин.
В траншее бойцы чертыхались, отдирая грязь от автоматов, развесив на солнечной стороне хода сообщения набухшие шинели.
— Кажись, на сегодня отстрелялись. — Капустин сидел без гимнастерки, потирая ладонями плечи.
— Пока не стемнеет, подниматься, видать, не будем. — Иволгин мельком взглянул на узкие плечи Капустина, на худые руки, невольно подумав: «И откуда сила у человека?» А о том, что сила была у Капустина, он знал лучше, чем кто-нибудь другой…
Они сошлись в боях под Минском. Капустин пришел в отделение Иволгина после ранения, замкнутый, молчаливый. Он мог, забывшись, подолгу сидеть в стороне, осунувшийся, с проседью в черных прядях. Иволгин решил, что этот боец много не навоюет: до первого боя.
Однако в первом же бою не повезло ему, сержанту: рядом с окопом разорвался снаряд, и контуженного Иволгина присыпало землей. Приходя в себя, он застонал, и первое, что услышал, — приглушенный голос Капустина: «Тише, сержант, тише. Немцы кругом».
Стояла теплая июньская ночь. Высокое небо казалось белесым от высыпавших звезд. У земли небо темнело. Из траншей доносилась чужая речь.
Капустин тащил Иволгина на спине и, что запомнилось сержанту, почти без отдыха. Первый раз он остановился, когда они преодолели какую-то речушку и оказались в кустарнике. Здесь Капустин, видимо, почувствовал себя в безопасности и решил отдышаться. Упав на спину, разбросав руки, он хватал ртом воздух, приговаривая с каждым выдохом по-крестьянски: «Ой, чижало, ой, чижало». Да, Иволгин был хоть и пониже ростом, но зато в плечах пошире и фигурой поплотнее.
К утру они добрались к своим.
Оклемавшись, сержант пришел благодарить спасителя, а тот задумчиво смотрел перед собой и вместо ответа горестно покачал головой:
— Сколько хлеба погубили!..
Перед ними лежала перемятая гусеницами танков, и стоптанная сапогами рожь в пору колошения.
Они разговорились, Капустин, оказывается, тоже был крестьянский сын, до войны работал бригадиром полеводческой бригады, где-то под Николаевом. Это и сблизило двух мужиков: оба они были оторваны от родной земли…
Как-то перед атакой Иволгин предложил ему обменяться адресами: «На всякий случай». Капустин обстоятельно, крупным почерком записал в затертую книжицу адрес сержанта.
— Диктуй свой, — приготовился писать Иволгин.
Капустин молчал, облокотившись на бруствер. Позже он рассказал, как освобождал свое село, а вместо родного дома увидел зараставшую воронку. Они погибли еще в начале войны: и мать, и жена, и двухлетний сын. А он так спешил встретиться с ними…
С тех пор бойцы держались рядом и в атаке, и в обороне, и на отдыхе…
Но на войне место каждого солдата лучше других знает командир. Едва бойцы привели себя в порядок после неудачной атаки, как по цепи передалась команда: «Коммунисты, к комбату!»
Их собралось двадцать два человека.
Комбат умел говорить долго и красиво, но сейчас он был краток. Ясное дело — дот перекрывает все подходы. Брали его днем, брали ночью — ничего не выходило. Теперь план таков: с наступлением темноты по зеленой ракете одна группа пойдет на дот прямо, другая начнет скрыто заходить с фланга. Взорвать дот первая вряд ли сможет, ее задача: вызвать огонь на себя. Старшим в ней назначили сержанта Иволгина. Ну, а где Иволгин, там надо искать и Капустина.
Выйдя из блиндажа комбата, Иволгин разрешил всем своим пока перекурить. Солнце опускалось с остывавшего неба стеклянной игрушкой, уходило за каменные остовы разрушенного города. Сержант достал кисет, отсыпал себе цигарку; не глядя, передал его соседу.
— Значит, так, хлопцы, присядем пока, поговорим.
Иволгин, прислонившись спиной к стене траншеи, засмолил самокрутку.
— Да-а-а, этого немца на мякине не проведешь, — сказал он вроде как сам себе, все бойцы молчали. — Что я думаю? Вот мои ходики. — Он достал за цепочку карманные часы, открыл блестящую крышку. — Видите, секундная стрелка скачет без остановки, но кто заметит, как движется минутная? А ведь она не стоит на месте. Вот бы и нам так подобраться… По одному перелезть через бруствер, собраться в цепь шагов на двадцать друг от друга, чтоб было ни шатко ни валко, а дальше — только по-пластунски. И голову вверх не задирать, не греметь и смотреть за соседом…


![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](https://cdn.my-library.info/books/63242/63242.jpg)