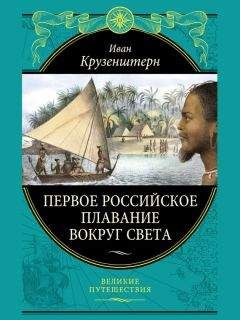Она была в платье, с воланами, легком и матовом, а косынкой, завязанной узлом на плече, и так причесана, что весь лоб, ясный и белый, был виден. Все глядели ей вслед. Она не пришла, а явилась в баре, и там, где она проходила, становилось тихо, переставали смеяться и говорить. Или, быть может, Трубачевскому это только казалось? Но если и казалось, она была все-таки так хороша, с такой высокой, спокойной грудью и покатыми плечами, что он чуть не заплакал от нежности и волнения. В первый раз за весь вечер он догадался, что пьян, — и не потому, что чуть не заплакал, а потому, что вдруг не поверил, что может быть на свете, и еще здесь, в этом грязном, равнодушном баре, совсем недалеко от него, такая женщина, такая красавица! Потом он вспомнил, что ведь и Карташихин должен знать ее, они были вместе в тот вечер. Он обернулся к нему.
— Ваня, помнишь?
Но Карташихин, должно быть, не помнил. Немного бледный, но очень спокойный, он смотрел в другую сторону, туда, где сидел маленький толстый дьякон.
Неворожин и Варенька прошли и исчезли. Они появились несколько минут спустя на антресолях и заняли только что освободившийся столик у самого барьера. Официант торопливо смахнул со скатерти и, подбросив салфетку под локоть, почтительно согнулся перед ними. Неворожин что-то сказал, официант исчез, и они остались одни.
Потом Неворожин, улыбаясь, заговорил с нею, а она как будто и не слушала. Поставив локоть на барьер, она глядела вниз, не меняя прежней высокомерной осанки, но с оттенком рассеянности, которая в глазах Трубачевского делала ее еще удивительнее и прекраснее.
Он давно уже изо всех сил задирал голову, надеясь, что она увидит и он успеет поклониться, но она все не замечала его, хотя — так ему показалось — несколько раз останавливалась на нем взглядом.
— Ах, черт, не узнает, не помнит, — совсем забывшись, сказал он с досадой.
— Забыла, — насмешливо сказал Хомутов и подмигнул Карташихину.
По Карташихин не улыбнулся, смотрел прямо, а Трубачевский спросил коротко:
— Что?
И Хомутов, чувствуя, что тут что-то неладно и что насмешничать неудобно, даже опасно, пожал плечами и заговорил с Лукиным.
— Ванька, пойдем к ним, — очень довольный тем, как он сказал это «что?», предложил Трубачевский, — не может быть, она нас вспомнит, честное слово.
— Иди, пожалуйста, если хочешь, а мы сейчас уходим, — холодно отвечал Карташихин.
— Нет, вы меня подождите, я только поздороваюсь и вернусь.
Студенты смотрели ему вслед. Он шел, забирая по сторонам и обходя столики дальше, чем нужно.
— Ты давно его знаешь? — спросил Хомутов.
— Давно, — сказал Карташихин. — А что?
— Да ничего. Какой-то чудной…
— Почему чудной? — нехотя возразил Карташихин.
— Нервный.
— Он не нервный, — сказал Лукин, на которого в баре напало созерцательно-важное настроение; он молчал, моргал, ел и все с каким-то остолбенелым видом, — а он слабогрудый. — И он прибавил, подумав — Мягко́й.
— Нет, ничего, — стараясь не смотреть на антресоли, упрямо повторил Карташихин.
Потом принесли горох, который уже часа полтора как был заказан. Хомутов попробовал и скорчил гримасу.
— Будь ты проклят! И кто тебя съест, сукина сына? — сказал он смеясь.
И они заговорили о другом…
Поднимаясь по лестнице, Трубачевский придумывал первую фразу. Он чуть не повернул назад, когда оказалось, что, кроме «здравствуйте», он ничего придумать не может. Но как-то вышло, что не только не повернул, а, напротив, спросил у бежавшего к нему навстречу с блюдом в руках официанта, как пройти на антресоли.
Тот указал, и без всякой мысли о чем бы то ни было, с легкой, приятно-туманной головой Трубачевский подошел к столику, за которым сидели Варенька и Неворожин.
Оба не сразу узнали его и некоторое время смотрели внимательными, вспоминающими глазами. Потом Неворожин с обычным противно-снисходительным видом, не вставая, протянул Трубачевскому руку.
— Прошу любить и жаловать, Варвара Николаевна. Товарищ Трубачевский.
Трубачевский обиделся и хотел поправить, но вместо этого пробормотал:
— Мы знакомы.
Он еще раз поклонился и покраснел.
— Конечно, знакомы. И помню.
Она поздоровалась с ним так приветливо, что Неворожин, который только что собрался спросить где они познакомились, вдруг переменил намерение и, улыбаясь, дружески потянул Трубачевского за рукав.
— Садитесь. Вы что же, завсегдатай в таких местах?
— Да, я бываю иногда, — соврал Трубачевский.
— Смотрите, я Сергею Ивановичу скажу, попадет.
— Ага, вам попадет, — сказала Варвара Николаевна. — Ну ничего, мы возьмем вас под свою защиту. Не правда ли? — обратилась она к Неворожину с той холодностью, которая пропала, когда подошел Трубачевский, а теперь снова вернулась.
— Непременно, — улыбаясь, сказал Неворожин.
Трубачевский посмотрел на его баки, подстриженные углом, потом в глаза, вежливые, но как бы лишенные выражения, и ему вдруг захотелось его ударить, как того швейцара с челюстью, стоявшего у входа.
— А где же ваш приятель? — сказала Варвара Николаевна. — Ведь вы были тогда с приятелем? Такой сердитый.
И она быстро изобразила, какой сердитый.
— Ужас, как ему не хотелось идти меня провожать!
— Он здесь, внизу сидит, — радостно отвечал Трубачевский.
Она посмотрела вниз.
— Который? Вот этот?
Трубачевский встал за ее стулом. Он нагнулся, ища глазами столик, за которым сидели студенты. Легкие волосы коснулись его щеки. Сердце стало биться крупно и скоро. Он стоял и ничего не видел.
— Вот там, у окна, — сказал он, с трудом вспоминая что они сидели у окна.
— Ага, вижу. Трое?
— Трое, — сказал Трубаческий и, сам не зная, что делает, нагнулся еще ниже. Но Неворожин насмешливо скосился на него, и он сейчас же выпрямился, перевел дыхание.
— Вот этот, справа. Не узнаете?
Варвара Николаевна долго и с любопытством смотрела на Карташихина.
— Нравится, — сказала она с радостью. — Неворожин, посмотрите. Правда, славный? Эта серая курточка у него парадная?
Неворожин пожал плечами.
— Да, очень славный, — с комическим отчаянием сказал он. Разбойник с большой дороги. И знаете, на кого похож? На Толстого в молодости. Разумеется, на Льва Толстого.
Карташихин видел, что его рассматривают. Он отвернулся и сидел несколько минут, опустив голову, исподлобья уставясь в широкие стекла окна, где все отражалось — и он сам, и искусственные цветы на столах, и люди, которые ели и пили, но все было тихим и темным. Они еще смотрели на него, он был в этом уверен. Злобно нахмурившись, он с шумом отодвинул стул и встал.
— Ты куда?
— Домой.
— Лукин, хватай его за пульс. У него — как это, к черту, называется? — febris от укуса ядовитой мухи.
— Фебрис идиопатика, — повторил Лукин с чувашским выговором, который особенно был заметен, когда он говорил по-латыни.
Хомутов налил портеру.
— Прими как успокоительное вот эту микстуру. — Он подвинул Карташихину кружку. — И садись.
— Нет, вы как хотите, а я пойду, — упрямо и мрачно повторил Карташихин.
— Во-первых, если ты уйдешь, нам придется ночевать в ближайшем отделении, потому что деньги у тебя, а у нас с Лукиным… — И Хомутов сделал рукой характерный жест, оставшийся у него с тех времен, когда он был президентом республики в Литовском замке. — Во-вторых, еще не доедено и не допито. В-третьих, нам нужно дождаться Трубачевского, если только он не собирается идти ночевать к этой…
— Возьми, пожалуйста, деньги, а я пойду.
— А Трубачевский?
— Вы скажете ему, что я ушел.
— Это не по-товарищески, — возразил Хомутов, но, заметив, что Карташихин снова нахмурился, добавил поспешно: — Ну ладно, пойдем. Вот горох доем, и пойдем.
Карташихин сел. Он ни разу не взглянул наверх, но знал, что они говорили о нем.
И они действительно говорили о нем. Трубачевский расхваливал его. Варвара Николаевна слушала и улыбалась.
— На каком же он факультете, ваш гениальный друг? — снисходительно спросил Неворожин.
— На медицинском, — скоро и мрачно ответил Трубачевский и опять обернулся к ней. Он хотел сказать, что у Карташихина «железная воля», но теперь, после того как Неворожин спросил про факультет, этого уже нельзя было сделать, и он замолчал.
— Значит, он хороший? — спросила Варенька.
— Очень.
Она взглянула на Трубачевского, на его хохолок, на лицо с румянцем еще детских щек и глаза, блестевшие от водки и возбуждения.
— Это не он хороший, а вы, — сказала она. — И ужасно молодой, ужасно. В сравнении с вами я просто бабушка. Неворожин, правда, я — бабушка?
— Ну, бабушка — я бы все-таки не сказал, Варвара Николаевна.