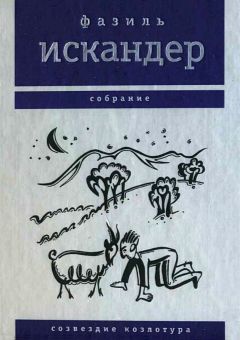Пока я так думал, открылась дверь, и снова вошла девушка из отдела писем.
— Я вам бумагу принесла, — сказала она и положила стопку бумаги на стол Платона Самсоновича.
— Хорошо, — сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости.
— Ну, что пишут? — спросила она как бы между прочим.
— Просят статью о козлотуре, — ответил я как бы между прочим.
Она пытливо посмотрела мне в глаза и вышла.
Я снова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ ликовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных коз. Я уже кончил очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсонович.
— Послушай, — сказал он, — не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?
— В каком смысле? — спросил я.
— В том смысле, что они довольны козлотуром, но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают…
— Но это же ваша личная идея? — сказал я.
— Ничего. — Платон Самсонович вздохнул в трубку. — Сочтемся славою… Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет…
— Я подумаю, — сказал я и положил трубку.
Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся. Чтобы отвоевать эти места, я решил поддержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вахтанга Бочуа, но он не подходил для этой цели. В конце концов я решил этот намек поставить в конце очерка, как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время, — писал я, — когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологии».
Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я чувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы: и козлотуры сыты, и председатель цел.
Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но пожившим дипломатом.
Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирное щелканье четок старожилов… Постепенно козлотуры уходили куда-то далеко-далеко, я погружался в блаженное оцепенение.
За одним из соседних столиков, окруженный старожилами, витийствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то, еще до войны, его бросила и оклеветала жена. С тех пор он запил. Его здесь любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам библейские притчи, перемежая их примерами из своей жизни.
— …И они мне говорят: «Соломон Маркович, мы тебя посадим на бутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду прямо на пол».
Увидев меня, он неизменно говорит:
— Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе расскажу свою жизнь от рожденья до смерти.
После этого обычно ничего не остается, как поставить ему коньяк и чашку кофе по-турецки, но иногда это надоедает, особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести.
Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очерком. Машинистка сказала, что его забрал редактор.
— Что, сам взял? — спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуясь ненужными подробностями.
— Прислал секретаршу, — ответила она, не отрываясь от клавиш.
Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать. Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович.
Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ждет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора сообщала испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно.
Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсонович.
Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выключившего мотор, но все еще находящегося в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее всего, ядовитого.
Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места моей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.
Рядом с его крупной, породистой фигурой сухощавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае как дежурный механик. Сейчас он выглядел как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел.
Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался стряхнуть с себя унизительное оцепенение, но ничего не получилось, может быть, потому, что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показалось, что я везде Иллариона Максимовича назвал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно неприятно.
Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку:
— Вы написали вредную для нас статью. — Я посмотрел на Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвернулся к стене.
— Причем вы замаскировали ее вред, — добавил Автандил Автандилович, любуясь моим замерзанием. — Сначала она меня даже подкупила, — добавил он, — есть удачные сравнения… Но все-таки это ревизия нашей основной линии.
— Почему ревизия? — сказал я. Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство.
— И потом, что вы за чепуху пишете насчет микроклимата? Козлотур — и микроклимат. Что это — апельсин, грейпфрут?
— Но ведь он не хочет жить с местными козами, — сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Максимович назван именно Илларионом Максимовичем.
— Значит, не сумели настроить его, не мобилизовали всех возможностей, а вы пошли на поводу…
— Это председатель его запутал, — вставил Платон Самсонович. — Я же предупреждал: основная идея твоего очерка — это «чай хорошо, но мясо и шерсть — еще лучше».
— Да вы знаете, — перебил его редактор, — если мы сейчас дадим лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий… и это теперь, когда нашим начинанием заинтересовались повсюду?
— А разве мы и они — не одно и то же? — сорвалось у меня с губ, хотя я этого и не собирался говорить. Ну, теперь все, подумал я.
— Вот это и есть в плену отсталых настроений, — неожиданно спокойно ответил Автандил Автандилович и добавил: — Кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли?
Я заметил, что он сразу успокоился, — мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой.
Платон Самсонович поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платона Самсоновича, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено, и в то же время я подумал, что если он решил меня изгонять, то должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился.
— Переработать в духе полной козлотуризации, — сказал он значительно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу.
Откуда он знает это слово, подумал я и стал ждать.
— Вас я перевожу в отдел культуры, — сказал он голосом Человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко. — Писать можете, но знания жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хорошем столичном уровне… У меня все.
Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало постепенно каменеть. Пока мы с Платоном Самсоновичем выходили из кабинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь, и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета.