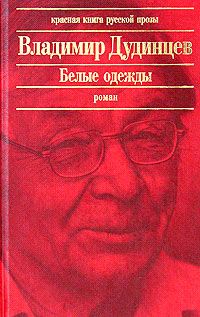— Спасибо, Василий Степанович.
— Вот и ладно, вот и хорошо. Так и уговорились.
Когда они подошли к мосту, Цвях вдруг остановился и, ударив кулаком в ладонь, тряхнув головой, сказал:
— Гуляй дальше сам. Пойду домой, полистаю доклад, материалы. Надо, Федя, ко всему быть готовым…
И быстренько заковылял назад. А Федор Иванович перешел по мосту овраг и зашагал по тротуару вдоль строя серых кирпичных домов, и перед ним возник прозрачный образ Елены Владимировны, состоящий только из тех ее особенностей, которые запали в его душу и незаметно, но постоянно напоминали о себе. Что за невиданный цветок вдруг расцвел в этом городе, что за судьба такая вдруг привела Федора Ивановича сюда, чтобы его увидеть!
Он шел и видел ее, читал слова, которые она писала движениями рук, полуповоротами и полупоклонами, пожатием плеч. И халатик ее серенький, узко перехваченный, с буквами «Е. В. Б.» на кармашке тоже возник перед ним. Рука Федора Ивановича нечаянно согнулась в кольцо, пальцы коснулись груди — да, так оно и получится, если…
Он прошел в арку — как раз под красным спасательным кругом — и обошел ее дом, стараясь угадать, где же ее окно. Потом через ту же арку он вернулся на улицу и с блуждающей улыбкой побрел дальше, ничего не замечая, пока не оказался на большой центральной площади. Здесь были сплошь старинные купеческие дома с колоннами, и только с одной стороны, из-за сквера с темно-бронзовой фигурой Ленина поднималось современное четырех — или пятиэтажное здание, состоящее из гранитных — до самой крыши — колонн и таких же высоких стеклянных плоскостей. Здесь помещались горком партии и горисполком. Подойдя поближе, Федор Иванович увидел в скверике длинный красный щит на постаменте, заключенный в раму бронзового цвета, окруженный фанерными красными знаменами. На нем висели десятка два больших фотографий — портреты ударников производства. Он прошел вдоль щита, рассматривая с невольным уважением лица этих знаменитых людей и читая фамилии. «Перхушкова Лидия Алексеевна, прядильщица, — читал он, — Туликов Иван Сергеевич, слесарь автобазы. Жуков Александр Александрович, сталевар…»
«Ага, — подумал Федор Иванович, — это он. Этого Саши Жукова отец».
Он постоял перед портретом, изучая усатое и бровастое, сердитое лицо, кепку и темные очки над козырьком.
«Сын тоже Александром назван. Семейная линия, — подумал он. — А сын взял и в биологи пошел. Кто-то его сманил туда. Кто? Не Троллейбус ли?»
И, слегка затуманившись, он побрел из сквера, свернул на длинный бульвар, с лавками под сенью лип. Он шел по бульвару, пока его не вывел из легкого тумана какой-то желтоватый блеск, возникший впереди.
Это был поэт в своем балахончике из золотистой чесучи. Он стоял посреди бульвара, неподалеку от пивного ларька и, подбоченясь, в позе трубящего Роланда, пил из бутылки пиво. Медлительно отпив несколько глотков, он уронил руку с бутылкой на выставленное брюхо и застыл, отдыхая. Потом, переведя дух и поразмыслив, он снова выпрямился, поднял бутылку и тут увидел Федора Ивановича. Одним пальцем руки, держащей бутылку, требовательно подозвал.
— Что тебе, Кеша?
— Погоди, не видишь, я занят.
Федор Иванович невольно ухмыльнулся — он знал эту манеру Кондакова.
Допив, поэт поставил бутылку на скамью, вытер двумя пальцами бороду и усы, взял Федора Ивановича под руку и, дыша в лицо пивом, сказал:
— Вот, послушай. Новое.
Дымчатым бабьим голосом, подвывая, он начал читать:
Три с гривою да пять рогатых,
В овине сохнет урожай.
За этот сказочный достаток
Отца сослали за Можай.
А ты, его сынок-надежа,
Проклятье шлешь отцу вдогон,
Родную сбрасываешь кожу,
За новью пыжишься бегом.
Был Бревешков, а стал Красновым,
Был Прохором, теперь ты — Ким.
И спряталась твоя основа
За оформлением таким, —
Чтоб мы и думать не посмели,
Что ты — новейший мироед,
Когда увидим в личном деле
Краснова глянцевый портрет.
— Ну, как? Чувствуешь, что это за вещь?
— Чувствую. Серьезная вещь…
— Да? — Кондаков недоверчиво посмотрел на Федора Ивановича.
— Да, Кеша. Вещь хорошая и серьезная. Ты реагирующий мужик.
— Ты находишь? — сказал поэт польщенно. — Ну, пойдем, пройдемся. Скажи еще что-нибудь.
— Зачем у нашей старухи сундучок спер? Хоть бы пятерку ей.
Кондаков остановился, как будто в него выстрелили дробью. Потом опомнился, его рожа, окаймленная рыжеватыми с проседью лепестками, расплылась.
— Фу, напугал… Разве это ее? Она видела?
— А как же. Ходит и костит твое честное имя…
— Что же ты не остановил? На, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала.
— Барахло ходишь по улицам собираешь…
— Барахло? Знаешь, какое это барахло? Этот сундучок у ней весь внутри оклеен газетами. Тридцатый год. И там объявления, Федя… Какие объявления! Слышишь? «Порываю связь с отцом как кулацким элементом». «Рву все отношения с родителями, сеющими религиозный дурман в сознание трудящихся». «Меняю фамилию и имя». И берут имена: Октябрь, Май, Ким, Револа… Так и повеяло, знаешь. Ночь не спал.
— Покажешь?
— Его уже нет. Одному человеку отдал.
— Жаль…
— Просил человек. У него там кто-то оказался. Из своих. Ты бы разве не отдал?
— По-моему, ты правильно отразил суть… Может, и правда, кто-нибудь делал это в экстазе. Потому что в этих отречениях от родителей есть что-то. Какой-то обряд. Люди более развитые, образованные спросили бы — а к чему эти жертвы вообще?
— Погоди, Федя. Погоди, запишу… — у поэта в руках уже были ручка и пачка сигарет. — Давай, давай…
— К чему, говорю, эти обряды делу революции? Родители — они ведь сами по себе. Раньше, например, полагалось носить крест. Тут есть, Кеша, что-то от человеческого жертвоприношения… Не каждый из этих был в исступлении… Не все пылали, ты прав. Иные трезво предавали, чтоб спасти себя, а иные — чтоб и взлететь…
— Ты думаешь? Ну, ну. Продолжай…
Федор Иванович с грустью посмотрел на его исписанную сигаретную пачку.
— Такая публикация не есть доказательство революционного образа мыслей. Наоборот! Этим утверждается: думай, что хочешь, но только про себя. Сделай эту подлость и обрежешь концы. Газета пойдет в архив под надежный замок, ключ — в надежных руках — и весь твой век тебе будет уже не до старомодных кулацких настроений. Вот если сейчас кто-нибудь из них жив и ему показать сундучок с газетой, умело показать… Так иной, пожалуй, и в петлю полезет…
— Продолжай! Почему ты не пишешь стихов!
— Да, Кеша… Кто требует предать родного отца, — не рассчитывай на чью-нибудь верность.
— Говори, говори…
— Нет. Больше говорить об этом не хочется.
— Ну еще немного. Пойдем ко мне, накормлю тебя хорошим завтраком. Мясо! Мясо, Федя! Мясо и лук! Вот тут, совсем рядом. Вон он, дом. Видишь, спасательный круг? Говори еще…
— Исчерпался, — Федор Иванович с интересом посмотрел на него. — Ну ладно, завтракать так завтракать. Пошли.
Иннокентий Кондаков отпер плоским ключом шикарную дверь на четвертом этаже, обитую стеганой черной искусственной кожей, сияющую бронзовыми кнопками. Они вошли в темную каморку. Здесь, как в харчевне, сильно пахло недавно жарившимся мясом. Кондаков включил свет и сейчас же начал раздеваться.
Балахончик, сорочку и чесучовые брюки он повесил в стенной шкаф, туда же поставил алюминиевые туфли на женских каблуках. Из шкафа грубо выволок махровый малиновый халат и, накинув, завязав под животом пояс с кистями, предстал — золотисто-волосатый, с вылезшим из халата напряженным пузом. В золотой чаще нагло зиял воронкообразный пуп.
— Красавец! — воскликнул Федор Иванович. — Гольбейн!
— Что это такое, Федя?
— Художник был. Короля английского нарисовал, похожего на тебя.
— Спасибо, дорогой.
— Этот король переменил шесть жен.
— Да ну! Это точно — я. Спасибо, удружил. Пойдем на кухню.
Как только они вошли туда, множество тараканов кругами забегало по полу и по стенам, и через мгновение все куда-то скрылись. Поэт достал из духовки лоснящуюся сковороду с четырьмя кусками мяса, сидящими в высокой подстилке из жареного лука. Понюхал и подмигнул. Каждый кусок был величиной с большой мужской кулак.
— Это ты все для себя? — изумился Федор Иванович.
— Мне надо есть мясо. Вечером ко мне придет дама.
— Серьезно относишься к делу…
Поэт кончил любоваться своей сковородкой.
— Подогреем? — спросил, сверкнув сумасшедшими светлыми глазами. И ответил: — Подогреем-с!
Пыхнул огонь в духовке, Кондаков задвинул туда сковороду. Федор Иванович в это время рассматривал приклеенное над столом цветное фото обнаженной женщины, вырезанное из иностранного журнала.