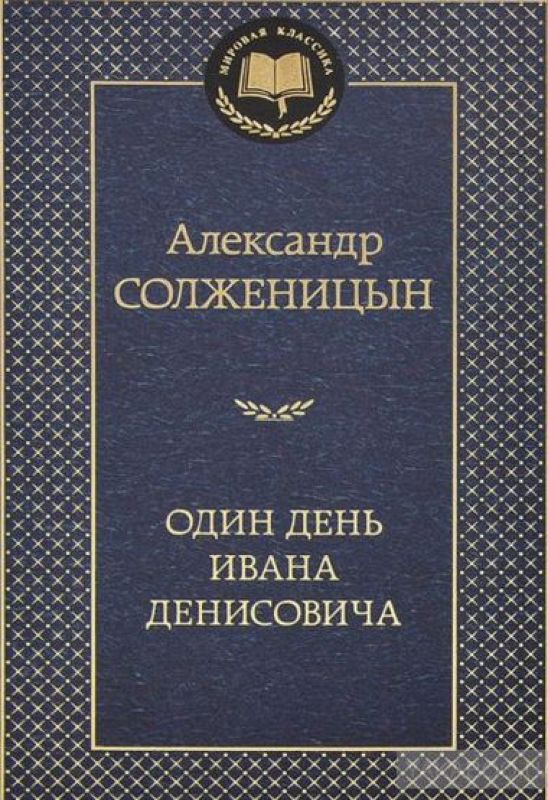мои, сейчас тебе кипятку!» Пока налил, а поезд трогает. Она буханки мои дёржит, плачет, что с ими делать, чайник бросить рада. «Беги, кричу, беги, я за тобой!» Она впереде́, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, — а поезд гону! Я — тоже на подножку. Не стал меня кондуктор ни по пальцам бить, ни в грудки спихивать: ехали другие бойцы в вагоне, он меня с ними попутал.
Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докури, мол, недобычник. С мундштуком ему своим деревянным и дал, пусть пососёт, нечего тут. Сенька, он чудак, как артист: руку одну к сердцу прижал и головой кивает. Ну да что с глухого!..
Рассказывает бригадир:
— Шесть их, девушек, в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице, плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут мимо жизни, семафоры зелёные… Поговорили, пошутили, чаю вместе выпили. А вы, спрашивают, из какого вагона? Вздохнул я и открылся: из такого я, девушки, вагона, что вам жить, а мне умирать…
Тихо в растворной. Печка горит.
— Ахали, охали, совещались… Всё ж прикрыли меня плащами на третьей полке. Тогда кондуктора с гепеушниками ходили. Не о билете шло — о шкуре. До Новосибирска дотаили, довезли… Между прочим, одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил: она в тридцать пятом в кировском потоке {22} попала, доходила на общих, я её в портняжную устроил.
— Може, раствор робыть? — Павло шёпотом бригадира спрашивает.
Не слышит бригадир.
— Домой я ночью пришёл с огородов. Отца уже угнали, мать с ребятишками этапа ждала. Уж была обо мне телеграмма, и сельсовет искал меня взять. Трясёмся, свет погасили и на пол сели под стенку, а то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали. Тою же ночью я маленького братишку прихватил и повёз в тёплые страны, во Фрунзю. Кормить было нечем что его, что себя. Во Фрунзи асфальт варили в котле, и шпана кругом сидела. Я подсел к ним: «Слушай, господа безштанные! Возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить!» Взяли… Жалею, что и сам к блатным не пристал…
— И никогда больше брата не встречали? — кавторанг спросил.
Тюрин зевнул.
— Не, никогда не встречал. — Ещё зевнул. Сказал: — Ну, не горюй, ребята! Обживёмся и на ТЭЦ. Кому раствор разводить — начинайте, гудка не ждите.
Вот это оно и есть — бригада. Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит — работать. Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит тоже.
По гудку если раствор разводить, так каменщикам — стой?
Вздохнул Шухов и поднялся.
— Пойти лёд сколоть.
Взял с собой для лёду топорик и метёлку, а для кладки — молоточек каменотёсный, рейку, шнурок, отвес.
Кильдигс румяный посмотрел на Шухова, скривился — мол, чего поперёк бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильдигсу не думать, из чего бригаду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и помене — он с посылками проживёт.
А всё же встаёт, понимает. Бригаду держать из-за себя нельзя.
— Подожди, Ваня, и я пойду! — обзывает.
Небось, небось, толстощёкий. На себя б работал — ещё б раньше поднялся.
(А ещё потому Шухов поспешил, чтоб отвес прежде Кильдигса захватить, отвес-то из инструменталки взят один.)
Павло спросил бригадира:
— Мают класть утрёх? Ще одного нэ поставимо? Або раствора нэ выстаче?
Бригадир насупился, подумал.
— Четвёртым я сам стану, Павло. А ты тут — раствор! Ящик велик, поставь человек шесть, и так: из одной половины готовый раствор выбирать, в другой половине новый замешивать. Чтобы мне перерыву ни минуты!
— Эх! — Павло вскочил, парень молодой, кровь свежая, лагерями ещё не трёпан, на галушках украинских ряжка отъеденная. — Як вы сами класть, так я сам — раствор робыть! А подывымось, кто бильш наробэ! А дэ тут найдлинниша лопата!
Вот это и есть бригада! Стрелял Павло из-под леса да на районы ночью налётывал — стал бы он тут горбить! А для бригадира — это дело другое!
Вышли Шухов с Кильдигсом наверх, слышат — и Сенька сзади по трапу скрипит. Догадался, глухой.
На втором этаже стены только начаты кладкой: в три ряда кругом и редко где подняты выше. Самая это спорая кладка — от колен до груди, без подмостей.
А подмости, какие тут раньше были, и козелки — всё зэки растащили: что на другие здания унесли, что спалили — лишь бы чужим бригадам не досталось. Теперь, по-хозяйски ведя, уже завтра надо козелки сбивать, а то остановимся.
Далеко видно с верха ТЭЦ: и вся зона вокруг заснеженная, пустынная (попрятались зэки, греются до гудка), и вышки чёрные, и столбы заострённые, под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против — нет. Солнце яро блещет, глаз не раскроешь.
А ещё невдали видно — энергопоезд. Ну дымит, небо коптит! И — задышал тяжко. Хрип такой больной всегда у него перед гудком. Вот и загудел. Не много и переработали.
— Эй, стака́новец! Ты с отвесиком побыстрей управляйся! — Кильдигс подгоняет.
— Да на твоей стене смотри лёду сколько! Ты лёд к вечеру сколешь ли? Мастерка-то бы зря наверх не таскал, — изгаляется над ним и Шухов.
Хотели по тем стенкам становиться, как до обеда их разделили, а тут бригадир снизу кричит:
— Эй, ребята! Чтоб раствор в ящиках не мёрз, по двое станем. Шухов! Ты на свою стену Клевшина возьми, а я с Кильдигсом буду. А пока Гопчик за меня у Кильдигса стенку очистит.
Переглянулись Шухов с Кильдигсом. Верно. Так спорей. И — схватились за топоры.
И не видел больше Шухов ни озора дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги — кто ямки долбать, с утра не додолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и