Вечера в августе были ласковые, притомленные. Я сбегал к реке опрометчивой лесенкой и, бросив в сторонку сандали, взрывал воду. Переворачивался на спину, успокоив руки. Вокруг меня дробилась мелкая волна, а я полеживал себе пластом, едва-едва лишь шевеля ногами, радовался свободной жизни. В теле усмирялась быстрота, и я слышал, как наступает абсолютная легкость, будто сам я всплывший пузырек воздуха, привычная для воды плавуница. Пионеры, те при купании маялись — туда нельзя, там волна смоет, и визжали, и поеживались, а вожатые прямо-таки стремились оглушить реку из горластого рупора. Какая ж это жизнь!.. А я в неделю стал звонким, питался любой ягодой и бодался с заборами, как шальной бычок. Тетя Лиза сдавливала мои плечи:
— Ох, и мужичок растет, девкам на слезы.
Поев, я отворачивался к окну, а тетя Лиза глядела на себя в зеркало. Свечка обсыпалась каплями на блюдце. Тетя Лиза вздыхала, шуршала одеждой или слабо посмеивалась, обсуждая перемены:
— Старею я, Рената. Изливаюсь свечечкой. Мне бы только сыночка, как ты, золотая была бы я. Я ведь и зову тебя Ренатой, как никто другой, чтобы отдельная промеж нас родственность была. Ты не обижайся.
— Чего мне обижаться. Зови, как хочешь.
— А я ждала его с войны, радость копила. А радость вся и сгорела в танке. Господи, кричал он, наверное. Лучше б его сразу убило, чтобы огонь не взял. Рассказывали мне, как он перемучился. Мое имя говорил. Эх, и пожили бы мы…
А я уже думал, какую бы ей штуковину принести, замечательную, веселую, чтобы тетя Лиза не омрачала себя далекой думой. Только не придумывалось у меня, сон настилался, пахнущий теплой сосной.
— Я тоже об отце мучаюсь. И мать, как ты, в зеркало смотрит. Холодно, говорит, а в дому печь трескает. Трескает…
И в глаза мне сыпались искры. Над крышей передвигались сосны, оглаживали воздух ветвями, провеивались, роняя просушенные иголки.
Утром пел горн. Я прислушивался, отвыкая от сна. Гремели рукомойники. За окном толкался о скамью баран, глухой и глупый. Маленькая пчела скользила по стеклу. Тетя Лиза появлялась на пороге со сковородкой, словно и не спала, а всю ночь жарила глазунью.
И так день ко дню, как свежие, пропитанные солнцем бруски для просторного дома. Мужики на соседней улице рубили избу голубыми топорами, загорелые, точно купанные в масле, и широко разлеталась светлая смолистая щепа. Обильным на солнце выдался август, лишь по глубине оврагов хоронилась сырость, где выходили наружу чистые ключи и устаивались в ложбинах зеркалами. У меня там было свое притаенное местечко, поверху сплошь обросшее крапивой. Я сидел там иногда на обмытом гладком камне, опустив в легкую сбегающую воду ноги. Никому не было до меня дела, и застань кто-нибудь здесь, не сразу бы и угадал, где крапива, а где я — настоящий человек. Сюда и звуки не проникали, только пела свое вечная вода и похрустывали изредка суставами сосны.
Но однажды я услышал плач в сплошном перевитом кустарнике. Пошел на возникший голос, карабкаясь по склону. Девочка плакала козленком, ни для кого, себе в утешение. Она и вскрикивала изредка, точно ее щекотали, а потом вдруг начала икать от окончательной растерянности. Получалось, что она так забавно пускает пузыри. Открылась она мне, легонькая, на коротком пеньке, в маячке и трусиках, с красной лентой в совсем, соломенных волосах.
— Эй! — позвал я. — Не бойся. Чего здесь ходишь?
— Мальчик, хорошенький, спаси меня, — запричитала она. Ну, точь-в-точь козленок. — Я тебя до самой смерти помнить буду. Босиком я. По шишкам. Вся-вся искололась…
Шпарила, как наизусть приготовила. И слезы пропали, грязь на щеках осталась, худая-худая девочка и красивая.
— Ходи за мной, — сказал я. — Дома, что ли, нету?
— Лагерская я. Мы с тобой потом печенье есть будем. И не жалко мне, — засмеялась, счастливая, ни с того ни с сего. — Другие ночью грызут. Я думаю, что они там делают, а они грызут. Под одеялами. Я думаю, а вдруг язык откусят, и говорю: «Кппп, мыши страшные! Качается черный гроб, качается…» Это чтобы как в сказке.
— Ух, ты, а сама трусиха.
— Мне потому что больно. Я заблудилась. Притащил я ее к своему камню, усадил.
— Мойся, — сказал я, — пей. Такой воды нигде нету.
— Крапивой вся обожглась, божьих коровок ловила.
Сам того не ожидая, я погладил ее по волосам, такой она мне показалась маленькой и беззащитной. Но девочка вдруг ударила по моей руке, и некрасивая гримаса покрыла ее лицо.
— У тебя же цыпки! — обожгло меня. — Ты не лагерский.
Полез я наверх, не оглядываясь, кусая на ходу колокольчики.
— Погоди, — звала девочка, — погоди! — Долго звала. И голос ее затихал.
А в домике тети Лизы у стола сидел темный мужчина и курил длинную папиросу. Булькало в стакан вино. На рукаве блестела рыбья чешуя. Перевязанный бинтом палец глядел в сторону. Створка рамы упиралась в мой затылок.
— Если желаете, я вам рыбки привезу. Через день могу возить. Судачков подберу, стерлядки.
— Не беспокойтесь. Нехорошо столько пить.
— А мы сегодня гуляем, вот и палец взрезал. Костер у нас. Что ли пригласить вас, женщина вы прекрасная?
Он был чубатый, веселый и широко разводил руками. Глаза глядели прямо в тетю Лизу. Мужчина и ей в чашку налил вина, но тетя Лиза поднесла ко рту руку и прижмурилась маленько.
— Чего тут думать, — нажимал голосом рыбак. — Гармонь есть — горячая жизнь есть. Без памяти хочу жить. Выпьем, Лиза, отпылали мои дороги, теперь без памяти жить буду!
— Эк, вы какой. — И выпила одним громким глотком, надкусила яблоко. — В другой раз, — сказала, — для костра больше хворосту запасайте, чтобы до утра хватило.
— Можно и в другой раз, как прикажете.
Я испугался: умыкнет он тетю Лизу своей раненой рукой, костром завеселит, вон как расселся, привалившись к моей кровати, табуретку проломит. Обежал я дом и выстукнул коленкой дверь.
— Сынок, что ли? — радостно удивился мужчина.
— Сынок, — сказала тетя Лиза.
— Войной поднесенный… — непонятно добавил мужчина.
— Волка приведу, он тебе даст! — кинулся я на него. — Бинтов не хватит.
— Сам и есть волчонок, — не рассердился рыбак. — Мы ж друзья с доктором. Правда, Лизавета Павловна?
— Хворосту собирайте, — весело откликнулась она. — А волка привести он точно может. Не шутит. Честное слово.
При мужчине она и говорила и двигалась по-другому. Тень от нее накрывала меня и успокаивала.
— Обедать мы собираемся, — сказала твердо.
— Так я заеду, заеду, — поспешил рыбак. — Спасибочко вам за подмогу. Хворосту отборного для пылу заготовлю.
И снова я ждал выскальзывающего из-за поворота реки, удивительного в темноте парохода, принимал в душу свободную, проливающуюся на воду музыку. И возвращался к домику, собрав в кепку вишню. И опять тетя Лиза сидела перед зеркалом, освещенная пламенем свечи, одинокая, как сосна на обрыве.
Ни о девочке, ни о рыбаке я больше не вспоминал.
— Рената, а можно жить без памяти? — спрашивала меня тетя Лиза.
Но я не отвечал, делал вид, что сплю. Скоро свеча гасла.
Пей, сынок (тат.).



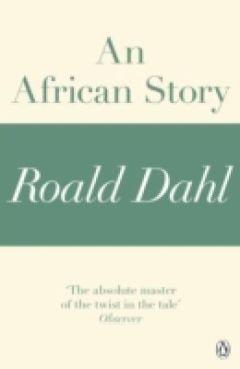
![Адель Кутуй - Неотосланные письма [Повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/111709/111709.jpg)
