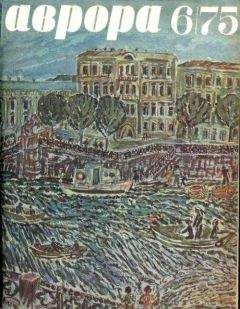Иван Павлович, словно комара, пришлепнул ладонью к колену смачное непечатное выражение. И тут же рассказал историю ворожеи, которая вылежала сорок лет на плите:
— В девках она была очень красивая. Друг у ее был, сбиралась за него замуж. Ей говорят: «Он уж с другой девкой венчается». — «Я его из-под венца уведу!» Побежала к церкве, а далеко, через лес. «Бежу, говорит, по дороге сама не своя, вдруг елка поперек дороги хлесть! Еле перелезла, опять бежу, а с другой стороны другая елка хлесть поперек. Лес так и валится, то слева, то справа. Прибежала к церкве, а оне уж на коней садятся, обвенчались. Заплакала. Пошла к баушке. Баушка говорит: «Не плачь, милая! Ты другая невеста. Будешь ведать тайную силу, будешь людям судьбу говорить».
— А мужики были колдуны?
— Нет, у нас не было. Мужикам это дело не далось, только баушкам. Вот и сичас у однех корова стельная из лесу не пришла. Облазили всю поскотину, искали двое суток — нет коровы. Сходи, мужику советуют, к баушке. Денег не пожалей. Да денег-то нет, говорит. Взял двадцать копеек, пошел — так и так. «Скажу», — баушка говорит. — «Сколько надо-то?» — «А сколько есть». — «Да вот только двухгривенной». — «Ну да и хватит. По какому теленку корова-то?» — «По первому, первотелок». — «Вот, найди такого человека, чтобы первой родился. Хоть старик, хоть робенок, только чтоб у матки первой. С ним и поди в поскотину». Он нашел такого. Только завор[2] перешли — корова стоит. И теленочек. Весь лужок вытоптан. Стояли не один день. Сколько разов проходил — и не видел. Закрывало, вишь. А тут сразу открыло.
Я спросил:
— А почему мужикам колдовство не дается?
— Дак ведь баба в любом деле мужика хитрей!
Иван Павлович снова подкинул в печку, я откашлялся. Разговор хоть и был интересный, но явно пошел не в ту сторону, и я спросил у него про его солдатскую службу. Он рассказал, как воевал с «австрийцем», как вернулся домой, а дома была такая голодуха, что люди ходили «по батогу в каждой руке». Дело было как раз когда «лопнула» царская власть.
— Сестра моя, Анка, с робёнком. Поп на робёнка молитвы не дал, она ему, вишь, бревна не привезла. Ей как привезти, ежели и лошади нет? Пришел поп в дом, она урезок хлеба заняла у сусидей. Подала. Он говорит: «Ты что мне даешь? Я не нищий». В печи кошка варилась. Она говорит: «Вот, батюшко, кошку варю. Ись нечего». — «Век бы тебе кошек варить!» Дверями хлопнул. Ну, думаю, я его когда-нибудь потрясу. У меня ружье было. И сичас есть. Заприметил, что поп сидит на озере, удит. Сусед мой пошел тоже на озеро, а поп ему кричит: «Не подходи!» Я ружье за плечи, собаку свистнул. Пошел к попу. Он увидел, говорит: «Подходи, подходи, Иван Павлович! Поудь рядом со мной». На шиша мне твои ерши! У меня вон собака, сичас зайца выгоним. Подошел к попу, говорю: «Хотел я тебя, батюшко, в озере оммочить. Да вот бог отвел, согрешить не дал. А кабы ты сказал мне такие слова, как и суседу, я бы уж оммочил».
— В колхоз-то вступил?
— Вступил. Послали раз на овин снопы сушить. С однем стариком. На два гумна. Его на одно, меня на другое. Хорошо. Я ночь просушил. Дров спалил целую клетку. Утром пришли молотить, а и овин не насажен. Ладно, пойдем на то гумно. Пришли, а там печь холоднехонька. Старик-от поумнее меня, с вечера наверх слазал. Доглядел сперва, да и ушел домой. А я-то, дурак, всю ночь сушил. Дымом глаза выело.
— Ну, не все время ведь такие были порядки!
— Чево?
— Не все же время такая неразбериха была? — Мне пришлось кричать, чтобы Иван Павлович услышал.
— Так, так. Одно время и в колхозе хорошо жили. А после войны опять худенько. А то кукурузу ету. Либо на силос мода пошла. Траву-то силосовали одинова, семь человек. Яму набили, надо закрывать, умяли трактором. Посчитали друг дружку — только шесть. Где седьмой? Давай искать. Траву разгребли, он пьяный спит. Засилосовали. Хорошо, что лежал с крайчику, трактор не раздавил. А ты говоришь — порядки. Осоку-то вон на озере. Сто голов можно бы прокормить, а косить не дают. Я плюнул, пойду, думаю, покошу себе, все одно пропадет осока. Накосил два стожка. Сусед ищет, говорит: «Ничего не выйдет, отымут». Ну уж отымут, так и отымут. Пусть. И верно, описали. Бирки навесили на стожки-то. А я зимой на чунках[3] поехал — думаю, все одно увезу. Бирки ихние в снег. Сено перевозил домой, жду, когда ко мне меры примут. В конторе говорят: «Сено по озеру совхозное кто косил?» Всех перебрали, записали. Сусед говорит: «Сиверков тоже косил». И меня туды, в список. Вызывают в контору. Вот, распишись, получи деньги. Да, вот порядки! Я думал, оштрафуют, а тут и денег на вино дали. Какие это порядки?
Иван Павлович замолчал. Я почувствовал, что надо уже уходить — была полночь. Он расколотил кочергой догорающую головешку, собираясь закрыть трубу.
— Угару-то не боишься?
— Печка добра, угару не копит. Не умру. Мне бы только до весны-то дожить. До токов. Как на тока выйду, так кряду и оживу. У меня и ружье есть.
Я подивился: старик совсем глухой, а собирается на тетеревиные тока…
— Придешь ишшо? — спросил Иван Павлович. — Я тебе про урядника расскажу.
— Приду. Приеду еще.
— Когда?
— А утром в субботу.
— В ту?
— В ту.
— Приезжай, приезжай! Всю нидилю ждать буду.
Он закрыл за мной скрипучие от мороза ворота.
Луна светила высоко в небе. Бескрайняя снежная даль Кубенского озера терялась в ее призрачном свете. Стояли вокруг темные елки. Деревня Пески давно спала.
Переночевав, я уехал в Вологду с твердым решением приехать сюда утром в следующую субботу. Но дела помешали приехать. Я отложил поездку на третью, затем на четвертую субботу. Потом совсем закрутился. Приехал в Пески через полтора года. Но Иван Павлович не смог рассказать мне про урядника. Теперь он лежал в земле, на веселой горушке рядом с деревней.
В его домике жили то ли изыскатели, то ли какие-то исследователи Кубенского синего озера.
Ховки — суставы.
Завор — проезд в лесной изгороди, закладываемый жердями.
Чунки — санки, салазки.