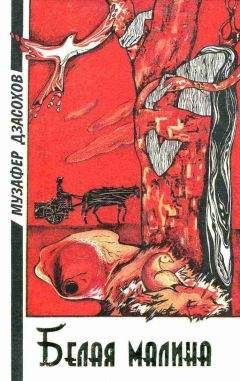— Берегись! Берегись! — вдруг закричал Агубе.
Я отскочил в сторону и тут же увидел ту самую собаку, которой мы так боялись, собаку Цымыржа. Я замахнулся палкой, но она так же бесшумно, как появилась, отпрыгнула в сторону. И исчезла.
Мы припустились бегом вниз по улице… Бежим, оглядываемся. А тут еще куры у меня в сумке раскричались — тоже, видно, со страху. И теперь уже собаки со всей улицы с лаем гнались за нами. До самой околицы проводили!..
Тут мне почему-то вспомнился Цымыржа. Уж не сам ли он научил собаку так тихо подкрадываться? Уж очень он какой-то странный. Одет всегда так, как будто на свадьбу собрался, — каракулевая папаха, на кителе военного покроя ни пылинки, пуговицы блестят, будто он их каждый день покрывает золотом, а на сапогах даже в проливной дождь грязи не увидишь. Смотришь на него и думаешь: а ведь у этого человека все заботы только об одежде, но душа у него пустая. Он всегда улыбается, однако улыбка у него какая-то фальшивая, неуютная. А глаза спрятаны так глубоко под бровями, что вот-вот и совсем скроются, однако что-то все же удерживает их, и они нехотя смотрят на белый свет. А уж когда засмеется, то одни еле заметные щелочки остаются. И кажется, эти глаза говорят его улыбающимся губам: «Улыбайтесь, улыбайтесь, а мы вас все равно выдадим!»
Цымыржа все называют подхалимом. Взрослые, конечно. Мы-то, мальчишки, не можем так его называть. Рассказывают, что Баппу[1] любил над ним подшутить. Как-то около магазина собрался народ. Баппу и решил развлечь людей. Он вышел вперед и крикнул:
— Чтобы провалился сквозь землю тот из нас, кто любит подхалимничать!
Все молчат, сдерживают смех. А Цымыржа уже весь как на иголках.
Баппу снова начал:
— Пусть тот, кто подхалимничает…
Но тут Цымыржа подскочил к нему и закричал:
— Я тебе голову разобью! Ты кого оскорбляешь?
А народ только этого и ждал. Такой смех подняли!
Это было давно, еще до войны…
Я вспомнил этот рассказ. Иду, улыбаюсь в темноте. А потом, как подумал, что ведь мы очень далеко от села, и опять стало страшно. Кругом тихо, ни звука. Уже и собак не слышно. Идем, молчим, боимся оба, только не признаемся в этом друг другу.
Наконец добрались до родника. Услышав журчанье воды, я вдруг понял, что давно уже хочу пить. Хотел было позвать Агубе: «Пойдем напьемся!» — но подумал, что ведь спуск к роднику очень крутой, туда и днем не так просто спуститься, не то что в темноте.
Родник остался позади. Хорошо, что я промолчал, а то сразу стало бы видно, какие мы оба трусы.
Я думал, что мы на базар придем первыми. Но там уже было полно народу. И своих односельчан встретили. Годзегка я за три километра узнаю: у нее на щеке огромная красная бородавка. Раньше я Годзегка боялся, и когда приходилось ходить на мельницу, то старался как-нибудь незаметно прошмыгнуть мимо ее дома. Но потом понемногу привык.
— Э, да это, кажется, сын Дзылла? — удивилась она.
Я остановился и от смущенья даже поздороваться не смог. А ведь я ей обрадовался, будто встретил родного человека.
— Как это мать тебя одного отпустила?
— Мы с Агубе, — ответил я, оглянувшись. — Вон он тащится, наверно, ногу натер.
— Чей Агубе?
— Ханджери.
— Надо же, как вырос!
Агубе остановился рядом со мной. Из сумок у нас выглядывали куры. Годзегка, конечно, поняла, что мы пришли их продавать.
— Поторопитесь, открывайте свой товар.
Мы открыли кур, и покупатели тотчас окружили нас. Мы с Агубе сговорились продавать кур по двадцать пять рублей, да и дома нам так велели. Но Годзегка шепнула:
— По двадцать семь просите. Я своих по двадцать пять продаю, а ваши-то лучше!
Рядом с Годзегка мы почувствовали себя гораздо уверенней. А покупатели, будто кто их направлял, почему-то все шли к нам.
Ко мне привязалась какая-то худощавая женщина со вставными зубами. Она хочет купить моих кур по двадцать пять рублей, а я не уступаю. И покупать не покупает и другим не дает. Тут покупатели зашумели на нее со всех сторон. Она выхватила из-за пазухи узелок, развязала его, отсчитала пятьдесят четыре рубля, сунула мне их в руки, запихнула кур в свою плетеную сумку и пошла. Я торопливо пересчитал деньги, положил в карман. К этому времени разделался со своими курами и Агубе.
Мы, конечно, были очень довольны — сумки у нас пустые, а карманы полные. Хотя много ли нужно, чтобы наши маленькие карманы были полны!
Мы весело ходили по базару. Если домой принесем по пятьдесят три рубля, наши будут очень довольны. А по рублю можно взять «на мелкие расходы». Мы уже заранее наметили, на что мы эти рубли потратим. Прежде всего купим семечек. По стакану; До самого села хватит. Потом — простокваши. Ее продают в поллитровых банках, джермецыкцы приносят. Никто не делает простоквашу так вкусно, как они. Пенка желтая, жирная! Старухи тут же и ложками снабжают: пожалуйста, пируй в свое удовольствие!
Мы с Агубе выбрали простоквашу с самой аппетитной пенкой. Через минуту банки у нас были пусты. Сказать по правде, я уже был сыт. И все-таки никак не мог отвести глаз от банок с простоквашей. Но переборол себя и, щелкая семечки, решительно зашагал прочь.
Мы с Агубе за этот день сильно устали и медленно брели домой. Да и куда торопиться! Прошли по мосту через Терек. Дальше протоптанная в высокой траве тропинка повела нас по берегу.
— Что это? — вдруг крикнул Агубе, показывая на реку.
В одном из мелких рукавов Терека что-то барахталось.
Мы спустились к воде. Смотрим — большущий усач. Видно, кто-то запрудил рукав. И чем меньше становилось в русле воды, тем сильнее билась рыба. Когда мы подошли, она затихла. Агубе скинул чувяки и, даже не засучив как следует брюки, бросился к рыбине. Рыба словно поджидала его — она подпрыгнула, хлестнула его по щеке своим широким хвостом и обвилась вокруг шеи. Агубе закричал, упал в траву. А рыба снова трепыхалась в обмелевшем рукаве.
Я подкрался к ней, оглушил ее палкой, а потом схватил за жабры и что есть силы прижал к каменистому дну. Усач затих. Я посмотрел на Агубе и не мог удержаться от смеха — одна щека у него так и полыхает, лицо и шея забрызганы грязью. Но Агубе на меня и внимания не обратил. Он ухватил усача за плавники и закричал:
— Вот это рыбина!
Мы вылезли из мутной воды, вымыли усача в прозрачном роднике и положили на траву. Солнце уже сильно пригревало.
— Давай зачерпнем в мою сумку воды и уложим его туда, а то, пока дойдем, испортится.
Хорошо придумал Агубе. Мы наполнили сумку водой, положили туда усача, подвернув ему хвост, потому что он в сумке не умещался. Сумку взяли с двух сторон и понесли.
Я шел и думал: как нам разделить рыбу? Но когда дошли до мельницы, мне вдруг пришла в голову очень дельная мысль.
— Агубе, давай обменяем рыбу у мельника на муку.
Агубе удивленно посмотрел на меня.
— Я давно уже уалибаха[2] не пробовал, — продолжал я, — да и дома нас похвалят. Скажут — хозяйственные у нас ребята!
Мельника Инарыко в нашем селе все знают. Его отец тоже мельником был. Инарыко мельницу свою изучил очень хорошо, а от беды все-таки не уберегся. Как-то выпил лишнего и пошел работать. Широкая цепь поймала его за руку… Калекой остался. Но когда выздоровел, опять вернулся на мельницу. Сельские мальчишки обычно приносят ему рыбу. Иногда они целый день ловят, а зачем же им так много? Вот по нескольку рыбин и продают мельнику.
Пока шли до мельницы, я уговорил Агубе продать мельнику усача. Два здоровых пса с громким лаем выбежали нам навстречу. Хозяин вышел во двор, прикрикнул на псов и махнул нам рукой — идите, мол, сюда. Мы подошли.
— Вот так рыба! — удивился мельник. — Где вы ее поймали?
Не дожидаясь ответа, Инарыко вытащил рыбу из сумки. Он вертел ее во все стороны, разглядывал и улыбался.
— Вам деньги нужны или мука?
— Мука! — быстро ответил я.
— Ну пойдемте, пойдемте. Я вам хорошей пшеничной муки дам!
Агубе старательно вычистил свою сумку. Сбегал к роднику, вымыл ее песком, чтобы не пахла рыбой, вывернул и положил сушиться на солнце. А пока мы с мельником прикидывали, какая мука получше, сумка высохла.
Почти до половины насыпал Инарыко муки в наши сумки. Нести было тяжело. Но мы не обращали на это внимания и, обливаясь потом, торопились домой.
Дзыцца была дома: она отпросилась у бригадира и не пошла в поле. Это меня очень обрадовало. А как она меня встретила — будто я из дальних краев воротился! Едва я открыл калитку, как она уже бежит мне навстречу.
— Почему так долго, Габул! Я все глаза проглядела!
Габул — это она так ласково меня называет. Настоящее-то мое имя — Казбек. Наверно, такой ласковой матери, как наша, ни у кого нет. Дзыцца обняла меня за плечи и заговорила со мной так, будто я повзрослел за это время; Еще бы! Вернулся, выполнил поручение. Столько радости ей принес!