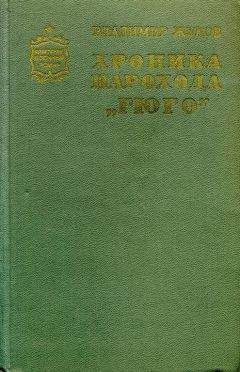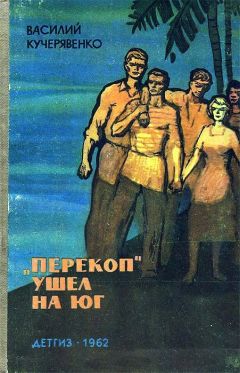Утром, зябко поеживаясь от ветра, матросы и мы, новенькие, человек пятнадцать, сгрудились на палубе, и Стрельчук принялся распределять по работам. Расходились кто куда — в малярку за краской, в подшкиперскую, шли кучками, по двое, по трое. Наконец боцман позвал и меня, последнего, и понесся на бак. «Будешь цементировать форпик», — сообщил он на ходу и задиристо осведомился, знаю ли я, что такое форпик.
О, я знал! Впереди, в самом носу парохода, есть отсек, куда набирают пресную воду. Впереди, потому и «фор», а еще есть такая же цистерна на корме, но называется она ахтерпик.
Стрельчук засопел, удивился как будто бы моей осведомленности и ничего не сказал. Я тоже молчал, стараясь догадаться, зачем цементировать форпик. Но когда боцман начал показывать, как сделать квач — не то кисть, не то швабру, я снова оказался на высоте: вырезал у конца палки желобок, облепил ее кусками пенькового троса и посередине змейкой намотал просмоленный шнур.
Пока шла работа, боцман исчез. Я радостно засмеялся, разглядывая дело рук своих. Не зря, выходит, в сухопутной Москве читал пособия по такелажному делу; заказывал их в тихой читальне Тургеневки, и библиотекарша, принеся с самых дальних полок книгу, всегда смотрела на меня с некоторым уважением.
В углу подшкиперской низким штабелем были сложены бумажные мешки, чуть припудренные серой пылью. И будто указание, что я не ошибся, что это в самом деле цемент, с верхних мешков глянули этикетки: «Портландцемент», «Смит энд бразерс компани», «Портланд, Орегон».
Я стянул со штабеля мешок и с трудом подтащил его к трапу. Постоял, решил, что сделал пока все, что мог, и присел, ожидая, когда придет боцман.
Ждать пришлось недолго. Боцман появился минут через пять, сердито и громко спросил, почему я бездельничаю, и тут же стал разводить в ведре жидкую болтушку из цемента и воды. Ругая тугие штепселя, включил переносную лампу, опустил ее куда-то в глубину открытого в полу люка и мотнул головой:
— Лезь.
Так я и шагнул в темную пустоту.
Чем ниже я спускался, тем у́же становился отсек. Казалось, я лезу на чердак, под самый верх, к коньку, но только конек не вверху, а внизу, и стропила, крыша — все перевернуто.
Осмотревшись, я понял, что стою на широкой балке, от которой растут вверх ребра шпангоутов. Вспомнилось, как они называются, такие балки, — «флоры», и я подумал, что это красиво. И еще подумал, что на пароходе все по-особенному называется и большей частью красиво. Опустил переноску, слез с балки и оказался точно в железном ящике. Ноги упирались в покатую поверхность, и я понял, что это уже днище парохода, что я сейчас нахожусь глубоко под водой. Стало немного не по себе, и я начал насвистывать «Море спит, прохладой веет». Так меня учил отец — петь или насвистывать, когда одиноко или страшно. Посветил лампой внизу, у самых ног, потом выше и вдруг понял, что значит «цементировать форпик». Железные шпангоуты, обшивка и трап на высоту моего роста были не окрашены, их покрывал рыжий налет ржавчины. А форпик должна заполнять питьевая вода, и от ржавчины она может испортиться. Потому все здесь надо замазать цементной болтушкой, как это начал делать кто-то другой, до меня, в вышине.
Тогда я еще не знал, что цемент, штабелем заготовленный в подшкиперской, предназначался вовсе не для отделки форпика, а на случай возможной аварии, если придется заделывать пробоину. Зацементировать емкости для воды обязана была верфь, построившая судно. Американцы, видно, забыли это сделать, а может, сочли, что и так сойдет. Хорошо, боцман непорядок углядел.
Мой квач успел пройтись лишь по трем балкам, как сверху донеслось:
— Левашов, заснул? Вылазь, к обеду позвонили.
Когда я вернулся, меня уже ждало намешанное боцманом ведро. Я поставил его в узкий колодец и присел на балку. Рука не доставала до низа, пришлось лечь. Куда надо совать кисть с медленно капавшей с нее болтушкой, было не разглядеть. Кое-как закрепил лампу-переноску и принялся лежа натирать балки.
Казалось, прошла целая вечность, пока я перебирался к третьему колодцу, а часы мои — старенькие часы с истертым циферблатом — показывали только четверть третьего. Значит, я работаю всего час.
Еще час — еще три колодца. Ведро опустело, и я в изнеможении бросил квач.
В марте 1943 года я перестал ходить в школу. Мама об этом не знала, потому что утром я, как обычно, брал портфель и уходил, только уроки мне заменяло бесцельное хождение по улицам. Почему я так сделал? Я и сам поначалу не знал. Прилежно учился, пока с фронта приходили письма. Мама читала их вслух и всегда говорила, что папин журналистский почерк хорошо понимает только она и еще какая-то машинистка у него в редакции. Я тоже понимал, но покорно слушал, чтобы маме было приятно.
А однажды маму позвали к телефону. Через дверь плохо разберешь, когда разговаривают в коридоре, да я и не прислушивался. Но как она вошла в комнату, заметил и запомнил до малейшей черточки — очень медленно вошла — и как сказала, осталось в памяти — будто удивилась, что может говорить, что у нее есть голос: «Ты знаешь, Сережа, а нашего папу убили».
Я еле успел поддержать ее. Она боком, неуклюже упала на диван и целые сутки пролежала. Я сидел рядом и плакал. Убеждал маму, что так не бывает, что такое не сообщают по телефону. Действительно, я не верил, пока не пришло по почте извещение с круглой печатью — лиловой, безжалостно четкой.
С того дня я плохо воспринимал, что говорили учителя. Школьная парта казалась тесной, словно бы я вдруг вырос, стал старше, и сидеть мне здесь глупо, так не поступают взрослые. Но как именно надо поступить, я не знал. Пойти в военкомат? А там могут сказать, что мой год еще не призывают. Если же возьмут, то где гарантия, что не пошлют в пехоту, в зенитчики? Мне ведь хотелось обязательно во флот, так мечталось с детства...
В классном журнале возле моей фамилии множились двойки. Я пропустил один урок, второй, потом день и еще день. Бродил по Садовой, у вокзалов, углубляясь в свою вину и в свою беду, пока не пришла простая и ясная мысль, что в школу мне уже обратно ходу нет и нужно уехать, обязательно уехать — все равно куда, только бы кончилось фальшивое хождение с облезлым портфелем под мышкой.
А потом случилось так, что к нашему соседу, милиционеру Васенкину, зашел приятель в синем морском кителе, и мы разговорились на кухне — гость и хозяин вышли туда покурить. Приятель Васенкина сказал, что враз может устроить мне направление через Морфлот, и первым пошел к нам в комнату, начал втолковывать маме про бесплатный билет до Владивостока, если будет направление, и про то, что к билету обязательно положат командировочные. Мама молча смотрела то на говорившего, то на низкорослого Васенкина, ободряюще кивавшего, и вдруг ответила мне, как будто я только что сообщил и про направление и про бесплатный билет: «Пожалуй, поезжай. Это хорошо — подальше отсюда. Ты будешь там сыт. Моряков всегда хорошо кормили».
И сразу гора с плеч. Хлопоты с отъездом заполнили дни. Я ходил по комнатам наркомата, мне выдавали нужные бумаги, и вот уже пора бежать в брошенную, нестрашную теперь школу — прощаться с ребятами, гордо напоследок взглянуть на учителей. А потом — вокзал, мама смотрит растерянно и вроде бы виновато, вытирает слезы, и вдруг платформа, фонари, здания у путей вздрагивают, едут назад, все быстрей назад, в прошлое...
Во Владивостоке в отделе кадров пароходства меня определили на Океанскую, станцию пригородной железной дороги, в бывший санаторий НКВД, по военному времени превращенный в общежитие. В санатории было полно народу — каких-то парней и девчат из Сибири. Они дожидались назначения на пароходы и пока шумно слонялись по коридорам, по роскошному, не терявшему своего ухоженного вида парку, собирались на политзанятия, часто группами уезжали в город — помогать портовикам на разгрузке. Я сторонился здешней братии; мне не верилось, что всем хватит места на судах, я боялся, что. смешавшись с живущими в санатории, могу очутиться совсем не там, куда стремился, ради чего приехал.
Неожиданно случай свел меня с одним матросом, по какой-то причине списанным с парохода и состоявшим в резерве. Мы встретились на барахолке, где я, почти не торгуясь, отдал свои серые выходные брюки за черствый батон, банку консервированной колбасы и сладко пахнувшую пачку сигарет «Кемел». Какой-то незнакомец, хриплый, с бачками, решительно отобрал у меня батон, колбасу и сигареты, ругаясь, вернул все небритому вертлявому парню и закричал: «Отличные брюки! Покрой чарльстон! А ну налетай,кому пофорсить охота!» Продал товар за хорошие деньги и накупил раза в три больше, чем я при первом, неудачном торге. С тех пор он, Семен Одинцов, лениво, будто не замечая меня, разрешал таскаться с собой по кривым, ползущим с сопки на сопку владивостокским улицам, сидеть рядом на лавочке в сквере и слушать, как он толкует с дружками о море, пароходах и рейсах в Америку.